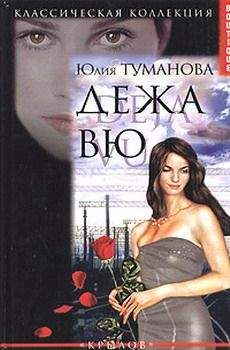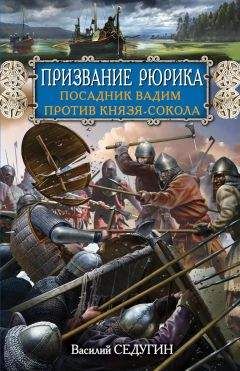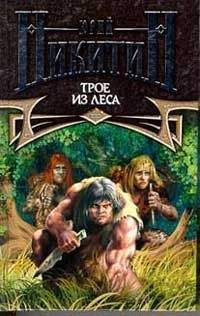То есть, не совсем любопытство…
— Спрашивай, — махнул он рукой, угадав ее сомнения.
— А та девушка в кафе — кто?
— Маша, — Олег улыбнулся. — Ты хочешь знать, кто она мне или кто она по жизни?
— Ничего я не хочу знать, — Тина отвернулась.
— Послушай, ты хотя бы себе можешь ответить, зачем задаешь эти вопросы?
— Пошел к черту! Я просто поддерживала разговор!
— Опять злишься, — вздохнул он, — значит, ответить не можешь.
— Да что ты тут из себя корчишь, Морозов? — возмутилась она. — Мудрец нашелся! Философ хренов!
— Маша — моя девушка, — невозмутимо проговорил он, — если это определение уместно употреблять мужчине в сорок лет.
— Тебе же не сорок, — перебила Тина, позабыв, что возмущалась.
— Почти. Неважно. Знаешь, — задумчиво произнес Олег, — а ругаешься ты по-прежнему. Я думал, такие утонченные дамы, как ты, не ругаются.
Она потерла щеки.
— Ага!.. Накрутишься за день, поговоришь со всякими кретинами…
— Меня ты тоже в кретины определила?
— Я же только что назвала тебя мудрецом, Олег! — попробовала съязвить она.
Олег побагровел. Она назвала его по имени?!
— Спасибо, — процедил он сквозь зубы, — ты тоже женщина неглупая.
Почувствовав его состояние, она смущенно молчала. В купе повисла неловкость.
— Пойду покурю, — пробормотал Морозов.
Он вышел и долго слонялся по вагону, прикидывая так и эдак, куда деться на ночь. В ресторане, ясное дело, напьется. И еще неизвестно, какие будут последствия. Заснуть в тамбуре вряд ли удастся. Скоротать ночку у проводницы?
Возвращение в купе представлялось хуже всех кар небесных. Лежать в темноте, зная, что их разделяет лишь несколько шагов. Слушать чужое дыхание, вспоминая, каково оно на вкус. До боли зажмуривать глаза, чтобы не видеть смутные очертания тела — ее тела, тяжесть и невесомость, запахи и движения которого память хранит против воли.
Она другая, другая, другая, убеждал он себя.
Ты знал и любил другую женщину!
Да ведь и сам он уже не тот. Алька, живущая в воспоминаниях, ему не нужна.
А Тина?
Она навела порядок на столе, убрала ноутбук, постелила белье, переоделась и с особой тщательностью, минут пять, разглаживала на вешалке костюм. Когда ни единой складочки на нем не осталось, Тина отчаянно оглядела купе.
Может быть, коврик в проходе пропылесосить?
Пыль с радиоприемника стереть?
Постирать Морозову рубашки?
Было ясно, что уснуть не получится. В который раз за эти дни она пожалела, что не прихватила Жарова. Его немудреные фразы, обыденные проблемы героев могли бы помочь. Наверняка бы помогли. Ну что за идиотка?! Мобильный купила, пижамой обзавелась, а книжку приобрести не догадалась!
Тина потушила свет и легла.
Ей показалось, она проворочалась целую вечность, пока не скрипнула дверь и в полумраке не появилась высокая фигура. Тина затаила дыхание, потом передумала и принялась сопеть — сладко, с причмокиванием. На этот раз она пыталась обмануть не его, а себя. Возможно, притворное сопение все-таки обернется настоящим и, несмотря ни на что, удастся провалиться в спасительный сон.
Морозов немного повозился впотьмах, шурша простынями. Вскоре обрушилась тишина, тягостная бессонница на двоих, бессмысленно пялившихся в ночь.
— Ты спишь? — первым не выдержал Олег.
Она еще не решила, стоит ли притворяться дальше, и вырвалось само собой раздраженное:
— Не получается!
Миллион ночей она засыпала у него на плече, уверенная, что жизнь кончится, если будет как-то иначе. Жизнь продолжалась, однако. Только все происходило с кем-то другим: с той, которая не умела радоваться солнцу — ни настоящему, ни вырезанному из дерева, — с той, которой было недосуг разглядеть весну в едва набухших почках, с той, которой усталость слепляла веки, не позволяя дождаться поцелуев и ласк. Та, другая, была королевой, хозяйкой жизни. Супругой, дочерью, матерью. Но никогда — просто женщиной.
Это сделало ее сильной, именно это. Не было необходимости в нежности, в утешении, в страстных объятиях. Иногда исподволь рождалось желание увидеть в мужских глазах что-то помимо привычного уважения и заботливого интереса. Но Тина никогда не позволяла этому желанию вмешаться в свою жизнь!
…Миллион рассветов он встречал, целуя ее сонные губы — горьковато-миндальные после любви. С тех пор заря по-прежнему поднималась над городом. Небо было голубым, трава зеленой, снег белым. И, наверное, все будет так же еще много тысячелетий. Изменился он сам. Все в нем стало другим, все, кроме неутолимой тоски по ней. Тоски, которая вскипела сейчас с новой силой, обжигая душу бессмысленными надеждами, а пальцы — пустотой.
— Я скучаю по тебе, — беззвучно прошептал он.
Услышала она? Догадалась? Или просто одна боль раздирала их сердца?
Ее полувсхлип, полустон бросил Олега в темноту, где в двух шагах, на другом краю бездны ждала его женщина.
Его женщина…
Они торопились. Боже, как они торопились! Словно время стаей шакалов загнало в тупик, оставив лишь одно мгновение — всего одно, последнее, бесценное, — но оно принадлежало им двоим. Как они принадлежали друг другу.
Лихорадочно метались, кружили ладони, пальцы горели огнем, и швыряло навстречу тела, как прилив швыряет волны на скалы, как швыряет зимний ветер хлопья снега в лицо, как небо швыряет на землю молнии. Не остановить. Не увернуться.
Можно спрятаться загодя, можно предвидеть и кропотливо строить преграды, заслоны, можно притвориться равнодушной к боли. Но однажды она настигнет сокрушительно, неизбежно, и рука невольно потянется за волшебной живой водой.
Вот она, вот… Живая вода ненасытных, долгожданных губ. И страхи, сомнения, обиды — на другой планете. Живая вода — забвение в объятиях. Жаркий озноб тела. Запахи, вкусы, движения, грохот сердца — его ли, ее?!
Теперь не различишь.
Соленый лоб — его испарина, ее слезы? Влажные виски — ее пыл, его поцелуи?
Они не стали единым и целым, но каждый ее вздох был как будто эхом его. Излом его рта — отражением ее горячих губ. И исступленно-жадные ласки обрушивались с одинаковой силой. И трепетные, бережные прикосновения, как взмах крыла диковинной бабочки, оставляли горечь — одну на двоих.
Ни стона, ни вскрика, ни шепота — только безмолвный диалог тел, тот, что с голубиного воркования срывался в жгучий спор, тот, что легко парил, оборотясь невозмутимой и простоватой беседой, тот, что летел в бездонные пропасти откровений.
Наговориться бы… наговориться…
Но страшно оторваться друг от друга. Хотя только первые мгновения они думали об этом, а потом мыслей не стало, ничего не стало.