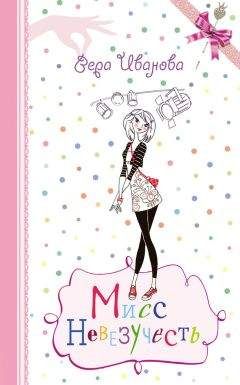Мы как будто рядом, и в то же время остается иллюзия того, что мы просто говорим в темноту.
— Спрашивай, Доминика, — хрипло говорит он. И тоже отпивает из бокала.
— Тимур, — сглатываю, потому что голос меня не слушается, — ты ведь любил меня, когда я была маленькой?
— Да, — отвечает отрывисто, — всегда любил. И сейчас тоже. Хоть ты и не веришь.
— Тогда почему… — вновь облизываю губы, не могу заставить себя сказать, — почему ты меня все время отталкивал?
— Почему… — задумчиво повторяет Тимур и делает еще глоток. — Когда я впервые увидел тебя, такую маленькую и беззащитную, во мне как будто что-то щелкнуло. Откуда-то взялось тепло, которого я сам не видел. Ты была очень домашней девочкой, совсем не приспособленной к детдомовской жизни. И я делал все, что мог, чтобы забрать тебя из детдома, получить опекунство, дать тебе образование, а главное, защиту. Но мне тебя не отдали.
Он замолчал, а я боялась его подгонять, чтобы он говорил дальше, чтобы не передумал.
— Опекунский совет собирался не один раз, но у нас слишком маленькая разница в возрасте, четырнадцать лет. Мне в лицо заявили, что я начну тебя пользовать чуть ли не с тринадцати лет.
— Но это же неправда, — закрываю я руками лицо, а сердце сжимается от жалости и обиды за Тимура. — Ты бы не стал!
Тимур ничего не отвечает, а мне все еще горько из-за такой несправедливости. Не сдерживаюсь и всхлипываю.
— Не надо плакать, Доминика, ты слишком хорошо обо мне думаешь, — говорит он с такой же горечью.
— Нет, Тимур, ты…
— Они были правы, Ника, — обрывает он меня так резко, что я замолкаю. И дальше говорит быстро, глухо, как будто боится, что у него не хватит духу договорить до конца. — Я хотел тебя. Еще когда ты там была, в детдоме, хотел. Тебе было пятнадцать, я приехал, лил сильный дождь. Ты с подружками стояла на крыльце в двух шагах от меня, промокшая до нитки. Мокрое платье облегало тело так, что мне было видно почти все. А что не видно, я додумал. И хотел тебя дико, не представляешь, как мне мерзко было. Я уехал, а ты еще долго перед глазами стояла в мокром платье. И я потом не мог удержаться, столько раз в душе… на тебя…
— Перестань, — говорю и слышу, как у меня дрожит голос.
— Не уверен, что смог бы удержаться, если бы ты жила со мной в одном доме, Доминика, — продолжает Тимур, и в его голосе сквозит настоящая боль. — А если бы я надругался над тобой, то вскрыл бы себе вены. И теперь представь, что я чувствовал, когда нашел твой дневник.
— Но я же выросла, — шепчу, глотая слезы, — а ты продолжал меня сторониться. И потом, когда я жила у тебя, тоже. Ты говорил, что не хочешь ни к кому привязываться.
— Я говорил правду. Мне была слишком дорога маленькая девочка Доминика и стала слишком дорогой девочка Ника, которая сбежала из ночного клуба в моем багажнике. Я много думал и пришел к выводу, что на самом деле узнал тебя на складе, неосознанно, внутренним чутьем. Меня к тебе потянуло с такой силой, что я испугался. Я боялся тебя потерять, Доминика.
— У меня сейчас мозг взорвется, — жалуюсь, сдавив руками виски, и Тимур снимает ноги с перил. Садится ровно, и я тоже поневоле выпрямляюсь. По коже бегут мурашки от его тона.
— Мой отец был очень богатым человеком, — теперь Тимур говорит через силу, и я закрываю ладонями рот, чтобы не закричать. Мне становится по-настоящему страшно. — Он связался с криминалом. Мать была беременной на седьмом месяце, когда нас похитили и начали его шантажировать. Ее убили и бросили в овраг, а меня то ли пожалели, то ли захотели срубить денег, обменяв за спиной у главаря. Вывезли из страны, но потом что-то пошло не так, и человек, который меня увез, оставил меня у ворот детского дома.
Я обхватываю себя руками и даже не пытаюсь сдержать слезы. Они ручьями текут по щекам, по шее, я вытираю их ладонями, а они снова текут.
Тимур говорит как будто сам с собой, как будто меня здесь нет. Хочется крикнуть, чтобы он замолчал, но слова застревают в горле. Я закрываю глаза, зажмуриваюсь, трясу головой, но видение никуда не исчезает.
Беременная женщина, вся в крови, а возле нее маленький Тим. Мой маленький Тимка, испуганный и беззащитный. Тимур тоже был маленьким, как же он все это пережил? И как все это пережил его отец?
— Я ненавидел отца, презирал его. Считал его слабаком и неудачником, раз он не смог защитить свою семью. Поэтому я отказался от тебя, Ника. Я не имел права на привязанность, потому что стоило закрыть глаза, я видел в овраге тебя.
— Нет, Тим, — реву, поворачиваюсь и хватаю его за руку, — пожалуйста, хватит.
Он в ответ разворачивается и сжимает мои ладони.
— Не плачь, моя девочка, все уже позади. Я ошибался и понял это, когда родился мой ребенок.
— Я обманула тебя, — прислоняюсь щеками к его рукам, цепляюсь за пальцы.
— И теперь у нас есть Полька, — он улыбается. Я не вижу, я слышу по голосу. — Благодаря твоему обману я узнал, что такое быть отцом. И понял, что ты значишь для меня.
— Почему тогда, Тимур? Почему ты поступил именно так? Приехал и все решил с Алексом. Не со мной, а с ним, как будто я вещь, принадлежащая тебе.
Его голос снова меняется, он отнимает руки и говорит совсем другим тоном.
— Потому что это так. Ты принадлежишь мне, всегда принадлежала. Но я не стал бы разрушать вашу семью, Доминика, если бы она была. Рубан сразу согласился на все мои условия, разве я мог оставить тебя с таким… удодом?
И я снова закрываю лицо руками.
Глава 25
Никогда не думал, что это так сложно — исповедоваться. Зато потом стало легко, будто с плеч неподъемный груз сняли.
Ника сидела тихой мышкой, слушала. Даже плакала тихо, только носом хлюпала, как Полька, когда на меня обижается.
В какой-то момент показалось, что она тянется ко мне, но стоило упомянуть эту скотину Рубана, возвращаемся туда, с чего начали. Ника снова закрывается от меня, и я понимаю, что наш разговор идет совсем не в ту степь.
Отнимаю ее ладошки от лица и вкладываю в них бокал. С меня неважный утешитель, «айсвайн» справляется лучше. По крайней мере, сегодня.
— Не плачь, Доминика, все прошло, — говорю, заглядывая в зареванные глаза. — Я больше не боюсь, я знаю, что смогу вас защитить. Вы — самое дорогое, что у меня есть.
— Тимур… — всхлипывает она, — ну почему ты такой непробиваемый?
Сдавливаю ее хрупкие запястья.
— Тимур… Почему ты больше не говоришь на меня «Тим»? Только на Тимоху.
Теперь моя очередь задавать вопросы. А ее — исповедоваться.
— Потому что ты стал другим. Ты все время разный, Тимур, разве ты этого не замечаешь? Иногда ты становишься тем Тимом, в которого я влюбилась. Иногда Талером, который нашел меня на складе в багажнике. А есть еще много всяких разных Тимуров, которых я просто боюсь, и никогда не знаю, кто из них сейчас рядом.
Вот это поворот! Я, конечно, контуженный, но не до такой степени, чтобы меня боялась моя девочка!
— Знаешь, — глажу большим пальцем тонкую кисть, — есть отличный способ определить. Память тела. Если не знаешь, кто перед тобой, тащи меня в кровать. Там сразу станет ясно.
Доминика поднимает на меня темные глазищи, в темноте я вижу только как они блестят. А потом начинает смеяться.
— Ты пошляк, Тимур, просто невозможный.
Сгребаю ее руки в свои.
— Доминика, если без шуток, то я нормальный, меня же обследовали, знаешь, сколько там бумаг тогда исписали? Километры, этими заключениями можно проложить дорогу по всему Эльзасу. Я просто привык все решать сам, ни на кого не обращать внимание, ни под кого не подстраиваться.
— Но я не хочу так, Тимур, — она подсаживается ближе, — я же не просто приложение к тебе.
— Не приложение, — соглашаюсь, — а продолжение. Ты — продолжение меня, ты для меня как я, поэтому ты со мной, а не Рубаном.
Опять этот Рубан, ну что ж он у меня из головы не идет, а? Но Доминика, кажется, не замечает.
— Правильно, Тимур, — ее глаза в темноте сверкают как лунная дорожка на волнах, — если мы одно целое, то, когда тебе больно, мне тоже больно. А когда я режу палец, у тебя течет кровь. Но ведь у нас не так?