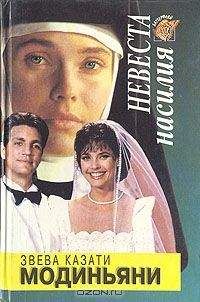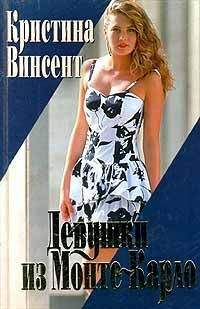Шон облегченно вздохнул и успокоился. С того трагического дня прошло несколько лет, он тоже изменился, не так, конечно, как Нэнси, но облик его облагородился. И что могла помнить эта блестящая девушка из того, что видела еще девчонкой в окне промчавшегося мимо автомобиля?
— Это — американский друг, — объяснила Нэнси. Бабушка забеспокоилась еще больше.
— Именно то, чего я и боялась, — Анна Пертиначе провела дрожащей рукой по седым волосам.
— Проходите, — пригласила гостя Нэнси. — Хосе Висенте не предупредил нас о вашем приезде.
— Это незапланированная поездка, — солгал Шон, проходя за девушкой в комнату, которая являлась и гостиной и одновременно столовой.
Аддолората сидела в низком кресле у окна и вязала крючком кружево. Сэл выглядывал из-за стопки школьных учебников, наваленных на столе. Бабушка пробурчала себе под нос извинения и ушла на кухню. Она не ждала ничего хорошего от этого внезапного визита. Аддолората вежливо, но довольно бесстрастно поздоровалась с гостем, едва подняв глаза от вязания, сложного и запутанного, как и ее мысли.
Шон положил на стол большой пакет, который держал под мышкой.
— Это нам? — Сэл вскочил и протянул гостю руку — познакомиться.
— Вам. Это пластинки, — ответил Шон на безмолвный вопрос в глазах подростка. — Хосе прислал вам последние шлягеры.
Сэл радостно кивнул, с тревогой оглянувшись на мать, погруженную в горестную апатию.
— Мама устала, — извиняющимся тоном сказала Нэнси, приглашая гостя сесть за стол между ней и Сэлом, который бросился открывать пакет.
— Расскажите, как там сейчас в Нью-Йорке? — спросила Нэнси, взволнованно глядя на Шона, словно в его глазах она пыталась разглядеть небоскребы Манхэттена.
— Нью-Йорк всегда хорош, ну а в сентябре он просто изумителен, — сказал Шон голосом, полным восхищения, словно говорил о любимой женщине.
— Листья на деревьях в Централ-парке, наверно, уже пожелтели, — ностальгически произнесла Нэнси, вспоминая яркие краски своего любимого времени года.
— Падают и покрывают лужайки огненным ковром, — сказал Шон и покраснел, смутившись от собственного красноречия.
Сэл поднял глаза от пестрой обложки диска и посмотрел на Нэнси и Шона. Разве они знали друг друга раньше? Разговаривают так, словно давным-давно знакомы, улыбаются во весь рот. А они, перебирая воспоминания о далеком городе, обменивались взглядами, похожими на томительную ласку.
— Так хочется снова увидеть Нью-Йорк, я так скучаю по нему.
— Я знаю, что наступит день, и вы всей семьей вернетесь.
— Откуда вы знаете?
— Хосе Висенте так сказал.
Они продолжали вспоминать, а их глаза вели другой разговор — любви.
Сэл опять занялся дисками, и этот странный диалог о Нью-Йорке и о чем-то, непонятном для него, перестал занимать его внимание. А между Нэнси и Шоном пробегали ни для кого не видимые волны волнения и взаимного влечения, возникшие неожиданно и спонтанно, изолировавшие их от всего мира. Сбивчивый их разговор был диалогом влюбленных, еще не отдающих себе отчета в собственных чувствах.
— Зачем вы к нам пришли? — голос Аддолораты нарушил волшебную атмосферу. Вопрос прозвучал резко и неприветливо. Но, задав его, Аддолората вовсе не рассчитывала на ответ. Она тут же опять потеряла всякий интерес к гостю. За последнее время она заметно изменилась. Иногда на ее лице вдруг снова загорался отблеск былой гордой красоты, искра улыбки, а потом опять застывала маска апатичного безразличия. Она молилась, плакала, автоматически шила, вязала, по привычке ела то, что приготовила для всех старая Анна, но не участвовала в семейных делах, ни к чему не проявляла интереса.
— Я приехал из Америки, Хосе Висенте просил меня навестить вас, — ответил Шон, и снова женщина погрузилась в свои мысли и безразличие ко всему окружающему.
Шон понял, что пора уходить. Хосе сказал достаточно ясно: «Взгляни на детей». Он это сделал, и теперь чутье подсказывало, что пора выбираться из этой трясины смутных чувств и желаний, пока не завяз.
Шон стал прощаться. В дверях он надолго задержал в своей руке руку Нэнси, и это прикосновение взволновало его сильнее любой откровенной ласки. Нэнси тоже почувствовала тревожное волнение впервые в жизни, сердце у нее сильно билось, щеки горели.
В тот вечер, когда все заснули, в своей комнате Нэнси вынула из ящика маленький сверток, который бережно хранила. Она торжественно развернула его, поднесла к свету пожелтевший белый шарф-накидку с бурыми пятнами крови Калоджеро, нежно ее погладила, словно гладила голову своего отца, и прошептала:
— Папа, скажу тебе честно, я влюбилась. Что мне делать?
На него обратили внимание все, а Нэнси — первая. От волнения у нее подкосились ноги. На Шоне были бежевые полотняные брюки, синяя трикотажная рубашка и темные очки в яркой оправе. Местные жители ни секунды не сомневались, что он — иностранец. Шона и Нэнси разделяла площадь, но ей казалось, что она чувствует запах его одеколона, напоминающий ей о Нью-Йорке.
У Нэнси сильно застучало сердце, кровь прилила к лицу. Да, она без памяти влюбилась в него. Утро в школе пролетело стремительно, она думала только о нем, хотя и пыталась делать вид, что внимательно слушает учителей. Она жила в состоянии благодати, словно с ней случилось божественное чудо. Да так оно и было, это вечное чудо — любовь — впервые снизошло на Нэнси.
Ее подруги и одноклассницы рассказывали Нэнси об этом странном состоянии сердца и души, но она выслушивала их излияния равнодушно, с чувством превосходства, считая, что сентиментальные истории — плод их бурного воображения — слишком уж все это напоминало детскую игру. Братья подруг, кузены, соседи по дому, сын аптекаря, киноактеры Грегори Пек или Гарри Купер, двадцатилетний учитель из Палермо, — все они служили слабыми резонаторами детских фантазий. Рано повзрослевшая Нэнси знала горе и смерть, но ей были чужды девичьи волнения и наивные мечтания сверстниц. И вот то ли случай, то ли судьба, то ли сама жизнь толкнули ее, словно героиню романтической истории, в водоворот чувств, силу которых она не могла оценить. Смятение чувств овладело ею во время ничего не значащего разговора о Нью-Йорке.
— Видела мистера Мак-Лири? — прошептал Сэл, шагавший рядом с сестрой.
— Конечно, — Нэнси хотелось броситься ему навстречу, но сдерживал страх — она боялась упасть, ноги ослабли, стали словно ватные.
Рядом с Шоном шел дон Антонио Персико, скромная элегантность которого контрастировала с яркой одеждой ирландца.