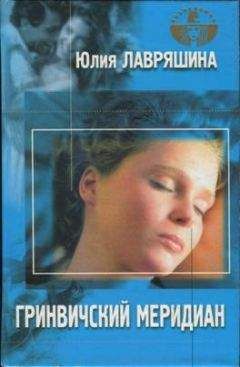Мы уже несколько дней не были с ней близки, и я даже не помышляю об этом. Когда болезнь была моей, она не могла служить преградой. Теперь — другое дело. Теперь я парализован ее болью, и так будет до тех пор, пока она окончательно не поправится.
Как-то она вдруг спросила: "Пол, ты умеешь скакать без седла?" Я машинально ответил: "Нет", и она разочарованно отвернулась. Потом вспомнил, что лет двадцать назад, а то и больше, мне это удавалось. Я сказал ей об этом, и она посетовала, не замечая жестокости своих слов: "Жаль, что я не знала тебя молодым… Похоже, ты был заводным".
"Я сделал много плохого", — напомнил я, хотя это довольно глупо — все время твердить о том, какой ты, в сущности, мерзавец.
"Да знаю я! — раздраженно ответила она. — Ты так считаешь, потому что ты — насквозь католик. Для тебя дохнуть глубже положенного уже грех. Христианская религия невыносима! Она убивает всякую радость… Я хотела бы стать буддисткой".
"А что ты знаешь о буддизме?" — спросил я.
Она засмеялась: "Абсолютно ничего! Я вообще необразованная и глупая! Когда тебе надоест забавляться со мной в постели, ты это поймешь".
"Поспи, — посоветовал я, — и твоя злость пройдет".
"Не пройдет, — упрямо возразила она. — Почему все, что скучно — хорошо, а что весело — плохо?"
Стараясь не волноваться, я спросил: "Тебе скучно со мной?"
"Наверное, и правда надо поспать, — решила она. — А то я наговорю сейчас гадостей, потом буду жалеть".
"Тебе скучно со мной?"
Она рассердилась и покраснела до слез: "Да что ты заладил — скучно, скучно! Да, скучно! Не с тобой, а вообще. Я не знаю, к чему себя приложить…"
Когда она отвернулась и закрыла глаза, я вышел из комнаты и вдруг услышал, как она сказала в пространство: "С тобой… Как будто у меня есть выбор!"
Но у нее есть этот выбор, и она знает об этом, потому и мучается и мучает меня. Я физически чувствую, как Режиссер все время маячит у меня за спиной, и она смотрит то на него, то на меня, выбирая. Большая часть русских романов построена на истории о порядочной, хорошей женщине, которая губит себя ради страсти к какому-нибудь подонку. И, погибая, находит наконец удовлетворение и счастье. Очевидно, Рита не так уж и преувеличивала, говоря о необходимости страдания для жизни русского человека. Но ведь это ужасно…
Она пыталась начать рисовать, сидя прямо на разобранной постели. Я обрадовался, надеясь, что это развлечет ее и поможет воспрянуть духом. Но через несколько минут она скомкала лист, швырнула карандаш в стену и снова легла, отвернувшись.
Я понимаю, почему у нее ничего не выходит. Творчество требует отдаваться ему целиком и не терпит раздвоения души. А ее душа сейчас в смятении… Ей хочется одновременно чистоты и безумного веселья, потому что она никогда не знала его в жизни. Но совместить это — невозможно. У меня было время убедиться… Ни одна из десяти заповедей не сулит особого веселья и восторга. Жизнь, достойная человека, по сути проста и тиха.
Но чтобы прийти к ней и дорожить ею, наверное, надо пройти через огонь искушений, поддаться им и ужаснуться. Французы говорят проще: "Молодость должна перебеситься". Я сам шел именно такой дорогой, и мне остается только завидовать людям, которым удалось миновать геенну бурной молодости. Но я не встречал ни одного человека, сумевшего перепрыгнуть через это пламя.
Вчера мне преподнесли сюрприз. Хотел было написать "приятный", но, поразмыслив, решил, что можно отнестись к этому по-разному. Тот самый Игорь Анисимов, что на первом же занятии назвал меня неудачником, вдруг подошел после урока. Он направлялся ко мне с таким дружелюбным видом, что я решил будто он собирается мне что-то продать. Я уже напрягся, но Игорь неожиданно опустил глаза и поблагодарил меня. Лицо у него самое незапоминающееся, наверное, это и заставляет его быть дерзким.
"За что — спасибо?" — спросил я по-русски.
Он туманно ответил: "За все", и внезапно покраснел совсем по-детски — и уши, и шея, и даже лоб. Ни разу я не видел, чтобы люди краснели так густо. Сперва мне показалось, что это признак неподдельного раскаяния, и даже растрогался. Но, вспомнив нашу первую встречу, начал сомневаться. Может, он просто замыслил очередную пакость и на какой-то миг ему стало стыдно за себя? А может, во мне опять говорит старческая подозрительность… Буду ждать. Если Игорь все-таки честен со мной, значит, — это Ките так подействовал на его душу. На том уроке я как раз читал его стихи, не в переводе, конечно, чтобы ребята могли если не понять, то почувствовать эти стихи. По-моему, я сам непростительно разволновался, рассказывая о жизни этого красивого юноши и о его смерти, вот дети и заразились…
Русские дети вообще очень восприимчивы. В пятом классе одна девочка расплакалась, когда я, как мог, пересказал им "Соловья и розу" Уайльда, чтобы только заинтересовать. Она выбежала из класса, а я так перепугался, что бросился вслед за ней. Я настиг ее на четвертом этаже, где занимаются малыши, и куда я ни разу не заглядывал. Девочка, ее имя Маша, жалась к теплой трубе и всхлипывала так жалобно, что я не удержался и обнял ее. Я хотел было сказать, что это всего лишь сказка, печальная фантазия печального человека, но думал, что как раз этого-то и не следует говорить детям. Спасение человечества (если оно вообще возможно) — в этих детях, которые способны заплакать над вымыслом.
Все откладываю и не пишу о самом тягостном: утром забрали нашу Алену. В сопровождении милиционера пришли две женщины, из какой-то социальной службы (названия я не понял), показали бумаги, подписанные ее отцом. Алена не издала ни звука, не цеплялась за меня и ни о чем не просила. Она все поняла, как взрослая, и приняла это с таким достоинством, что если б мне не было так больно, то я испытал бы восхищение.
"Мы еще обязательно увидимся", — сказал я ей по-английски.
"Конечно", — сдержанно ответила она.
Я присел, и девочка обняла меня, но не судорожно, а так, будто шла прогуляться на четверть часа.
"В какой семье она будет жить?" — спросил я у тех женщин.
Они удивленно переглянулись: "В семье? Мы оформляем ее в детский дом".
Я ужаснулся, потому что много читал о подобных учреждениях сталинских времен. Не думаю, чтобы с тех пор они изменились к лучшему, ведь в остальном со страной этого не произошло.
"Зачем в детский дом? Она живет, как дома. Она все тут знает. Мы заботимся о ней. Я — обеспеченный человек. Мне на все хватает", — заговорил я, стараясь быть как можно более убедительным, но они меня даже не слушали.
"Так положено", — отрезал милиционер.
А одна из женщин добавила: "Что ж это она при живом отце будет у чужих людей жить?"