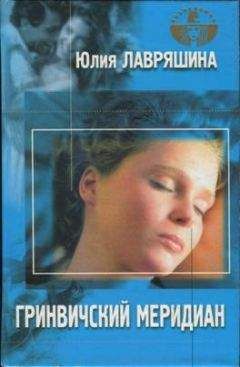Понять эту логику невозможно.
Тамара даже не проснулась, пока происходила эта сцена, и когда Алену увели, я почувствовал себя настолько одиноким в этой не принимающей меня стране, что захотелось завыть. Встать на колени и завыть. Но я побоялся разбудить ее.
Я сел в кресло, стоявшее напротив, и взял Достоевского, но читать не смог. Украдкой поглядывая на нее, я думал о нас, и об Алене, и о ее родителях. Я пытался понять, что может заставить убить любимую женщину? Или — не любимую? У меня перед глазами до сих пор стоит та картинка, настолько неправдоподобная, будто взята из голливудского боевика. Как могло такое случиться в моей тихой, размеренной жизни? Я вхожу в квартиру — безмолвную, словно затаившуюся, прохожу мимо кухни и вижу на полу тело женщины с раскинутыми, как после изнасилования, ногами. Вместо головы у нее — кровавая каша. Никакой тошноты я не почувствовал и вообще смотрел на все почти равнодушно, защищенный убеждением, что на самом деле этого не может быть.
Сидевший рядом с телом мужчина поднял голову, и мы встретились взглядами. В его глазах не было ни раскаяния, ни ужаса. Ничего. Пустота. Мне было знакомо это состояние совершенной пустоты, и я понимал, что мне нечего сказать ему. Все его чувства находились сейчас в дозачаточном состоянии, им еще только предстояло народиться. И по-моему, он тоже догадывался о том, что все — боль, отвращение, тоска — еще впереди.
Он не проронил ни слова, когда я забрал его дочь. Наверное, любовь к ней или хотя бы привязанность тоже разлетелись на куски от выпущенной им пули. Тамара уверяет, что эти люди жили душа в душу и проводили вместе все свободное время. Казалось бы, это говорит о том, что они стали настоящими друзьями, а ведь поднять руку на друга куда невозможнее, чем причинить боль тому, к кому испытываешь страсть. Я не чувствовал ее к Джейн, просто я весь тогда был — сплошная страсть. Она всего лишь угодила в меня, как в мясорубку, и я, не задумавшись, перемолол ее.
Теперь страсть опять подняла голову. Я полагал, что научился контролировать ее за долгие годы, но Режиссер, ухмыляясь из темноты замка, подсказывает, что моя душа и теперь находится во власти бесов, демонов, сатаны…
Человек придумал столько названий тому страшному, что живет в нем, лишь бы отвергнуть подозрение, что все это — он сам. Может быть, если бы каждый воспринимал зло, существующее в нем, не как нечто потустороннее, а как часть самого себя, то с ним легче было бы справиться. Похоже, я и совершаю ту же ошибку, прикрываясь Режиссером…
Сегодня ко мне в школу опять приходила Рита. Занятия только закончились, и я собирал пособия. Она даже не потрудилась придумать оправдание своему визиту. Просто подошла и с вызовом сказала: "Привет, Пол! Вы не хотите пообедать?" Я ответил так вежливо, как только мог: "Сожалею, но я сам готовлю обед для себя и для Тамары. Она немного приболела".
"Я знаю о ее болезни", — ответила Рита, и это слегка кольнуло меня — я не думал, что она станет кому-нибудь рассказывать. Я забыл, что у русских принято делиться с родственниками проблемами своей личной жизни.
Спрашивать я ничего не стал, но Рита сама пояснила: "Я заходила к ней и накормила готовыми пельменями. Так что о ней не беспокойтесь… Признайтесь, Пол, вам ведь будет лень готовить для себя одного!"
Я не выдержал и улыбнулся. Она так обрадовалась маленькой уступке с моей стороны, что я устыдился: эта женщина пыталась стать мне другом, и не было никаких причин столь откровенно пренебрегать ею. Я был ей интересен как представитель того самого Запада, с которым сам призывал их дружить, а стоило первому же русскому человеку сделать шаг в мою сторону, как я шарахался прочь.
Рита повезла меня в маленький ресторанчик: "Настоящая русская кухня! Владелец — мой друг. А в Лондоне есть русские рестораны?" Я ответил, что в моем любимом городе гораздо проще найти русский, итальянский или китайский ресторан, чем отведать настоящей английской кухни.
"Признайтесь, вам надоели эмигранты? — засмеялась она. — Зачем же вы так стремитесь пополнить их ряды еще одной русской девушкой?"
Мне надоело все время отвечать на вопросы, и я сам задал тот, что меня действительно мучал: "Вы по-прежнему уверены, что она не поедет со мной?"
Она мотнула своей пугающе крупной головой: "Сейчас еще больше, чем когда-либо".
Я заметил, что это оскорбительно для меня. На это Рита уклончиво ответила: "Обижаться или нет — это ваше дело. Я вовсе не хочу говорить вам гадости. Но вы же сами видите, что с ней творится!"
"Это никак не связано с отъездом".
"Ну да, рассказывайте! — развязно бросила она. — Теперь вся ее жизнь связана с вами и вашим будущим".
Я нехотя признался: "Она выбирает вовсе не между Россией и Англией".
Рита была поражена: "Да ну?! Неужели есть другой мужчина? Что-то не верится… Томка никогда не была вертихвосткой".
"Вы ставите меня в неловкое положение, — сказал я. — Мне ведь неизвестно, что рассказала вам Тамара. И собирается ли она вообще что-либо рассказывать кому бы то ни было".
"Бедный вы, бедный, — с внезапной жалостью произнесла Рита и поглядела на меня так, как даже мать никогда не смотрела. — Угораздило же вас связаться с ней… Она же сумасшедшая! Она всю душу из вас вытянет!"
"Она и есть моя душа…"
"Не говорите банальностей, Пол! Какая там душа… Получаете удовольствие в постели с молоденькой женщиной, которой даже предложения до сих пор не сделали, и рассуждаете о душе. Смешно!"
Я действительно удивился: "А у вас принято сразу же делать предложение?"
Рита фыркнула: "А то вы не знали! Русская женщина начинает думать о браке уже в тот момент, когда мужчина впервые берет ее за руку".
"Что ж вы мне раньше не сказали? — укоризненно пробормотал я. — Так вот в чем дело…"
"А-а… Томка уже занервничала?"
"Брак — это действительно очень важно. Не только для русской женщины".
Рита со смехом подхватила: "Но и для английского мужчины. Вы — смешной, Пол Бартон!"
Опустив ее замечание, я продолжил: "Брак — это признание любви Богом. Это как благословение. Отпущение всех предыдущих грехов".
А вы много нагрешили, мистер Бартон?"
Эта женщина сбивала меня с толку. А я ведь пытался быть искренним с нею.
Весь этот разговор происходил уже за обедом. Рита заказала окрошку, даже не спросив моего согласия. На улице было прохладно да и в ресторане тоже, и я только замерз от этого русского угощения. Зато на второе подали огнедышащие пельмени, и я подумал, что к вечеру у меня будет заворот кишок от такого сочетания. Но я съел их, вспомнив, что мой голубой цветок питался сегодня тем же, и выходило, будто мы обедали вместе.