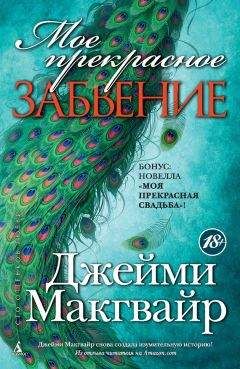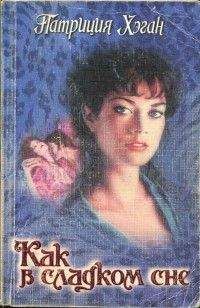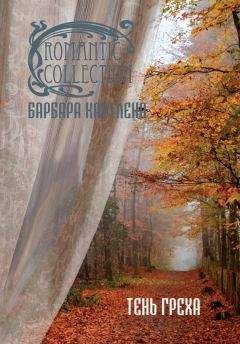В прихожей голоса. Явилась Людка. Они с Димой не знакомы. Вернее, не помнят о знакомстве. Я им не напоминаю, направляю Диму в ванную мыть руки, а сама иду в кухню ставить чайник.
Людка плюхается на табурет у окна и приказывает:
— Давай!
Я поднимаюсь на цыпочки и достаю с верхней полки дискетницу. Коса, конечно же, разматывается и падает на спину, утыканная шпильками и колючая.
— Вот это да! — восторгается Дима, таращась на меня из коридора. — Восторг!
Восторг. Попробовал бы этот восторг мыть, чесать и на голове носить, я бы на тебя посмотрела. Состригу к чертовой матери! А Дима подобрался поближе и теперь робко тянется к косе.
— Брысь! — Я шлепаю его по руке. — Не для тебя рощено!
— А для кого? — обижается Дима.
— Действительно, — присоединяется к нему Людка, — для кого?
— Ты за делом пришла? Сделала — иди, — строго напутствую подругу.
— Что это так? — не соглашается она. — Я, может, чаю хочу.
— Дома попьешь.
— Ну почему же? — вмешивается Дима. — Давай угостим девушку чаем. И я попью. Невежливо гостей выпроваживать.
— Какой же это гость? Это ж Людка! Ты что, не узнал?
— Не узнал! Людочка! Я так рад тебя видеть!
— Правда? — не поверила Людка и перевела на меня ореховые глаза.
— Дима Куликов, — простерла я руку в сторону Димы, — Люда Воронина, — ткнула пальцем в Людку. — Пейте чай, пиво, водку, самогон, знакомьтесь, дружите, предавайтесь воспоминаниям, а меня извините. Пойду лягу. Голова болит.
Особых возражений не последовало, и я поплелась к себе. Надо бы достать постельное белье для Димы. Катька ляжет со мной, я себе белье позавчера меняла. Все равно сил нет. В голове один Лешка. Черные глазищи, горестное непонимание, печально опущенные уголки губ. Лешенька… Я бы жизнь отдала за твое счастье. Любимый, единственный, прости меня. Я делаю тебе больно, а как больно мне. Господи, как больно! Как невыносимо больно.
Людка ушла. Перед этим просунула голову в мою дверь и пропела:
— Пока. Дима за мной закроет.
Пришла Катька. Бесцеремонно вкатилась в комнату, зажгла свет, присела рядом со мной. Через мгновение на мою голую ногу легко опустился край ее широкой юбки. Я подобрала ногу, повернулась к Катьке лицом. Она шуршала сигаретной пачкой.
— Не вздумай курить в комнате, — предупредила я.
— А где? — печально спросила Катька, но не растопила лед моего сердца.
— Отправляйся на кухню.
— Там Дима.
— И что? Он не знает, что ты куришь?
— Знает, но я обещала, что брошу. А он обещал отцу не говорить. Сказал: еще раз увижу, отцу скажу.
— Кать, в комнате курить нельзя.
— А где?
— Нигде. Надо было по дороге.
— Я покурила. Аль, не сердись. Я что-то сегодня не в себе. Знаешь, хуже, чем на похоронах. Правда. Понимаю, что для всех это облегчение, да и для меня она ничем по жизни не была, а плакать хочется.
— Еще чего. Слезь с моих ног, я встану.
Я встала, и мы пошли на кухню. На кухне сидел Дима. Перед ним стояла керамическая кружка с чаем. Дима смотрел за окно и вертел ложечку. Лицо у него было задумчивым, но не печальным. Он взглянул на нас и улыбнулся.
— Дима, — бескомпромиссно заявила я, — мы пойдем на лоджию покурим.
— И я с вами, — оживился Дима, вскакивая и открывая балконную дверь. Мы расположились на балконе. Я постаралась встать так, чтобы на меня не несло дым. Дима дал сестре прикурить, закурил сам. Затянулся, посмотрел на кончик сигареты, оперся на перила. Катя, опасливо косясь на брата, жадно глотала дым.
— Я могу курить, могу не курить, — похвастался Дима. — Легко начинаю, легко бросаю. — Он еще раз затянулся и щелчком отправил сигарету вниз.
Мне не понравился его поступок. Безответственный какой, а если окурок разгорится на земле и начнется пожар?
Дима повернулся к нам лицом и прижался поясницей к ограждению балкона. Еще лучше! Встал так, что кувырнуться пара пустяков. Что-то он странный сегодня какой! На себя не похож. А впрочем, кто его знает, какой он, когда на себя похож. Я ведь его сто лет не видела. Но Катька тоже поглядывает на брата с беспокойством. Вот приблизилась вплотную, погладила по плечу:
— Хреново, да, Димуль?
— А знаешь, нет! — оживленно блеснул глазами и зубами ее брат. — Наоборот! Знаешь, у меня чувство, словно мама стала прежней. Я ведь ее помню. Мне хоть и мало было, а помню. Особенно последнее лето, перед твоим рождением. Я теперь ее только такую помнить буду и только о такой думать.
Они стали рядом, прижавшись плечами, и уставились взглядами куда-то за дальние дома. Я тоже стояла рядом и чувствовала себя не чужой. Причастной их горю и их вновь обретенной радости. Именно радости. Они вели себя так, словно обрели давно потерянную маму. В эту минуту я любила их обоих.
Заспанная Катька закрыла за нами дверь и отправилась досыпать. В лифте я прижалась спиной к стенке и закрыла глаза. Болела голова, каждое движение отдавалось в ней, и я старалась поменьше шевелиться.
— Аль, — неуверенно начал Дима, и пришлось на него взглянуть. — Этот парень, что вчера встретился мне на лестнице, он к тебе приходил?
— Ко мне.
— Он кто?
— Однокурсник. — Зачем он спрашивает? Ой, как же мне плохо…
— Вы поссорились? — приставал Дима.
— Нет. — Я демонстрировала нежелание разговаривать. Дима почувствовал это и попытался объясниться, торопливо и почему-то виновато:
— Он выглядел таким расстроенным, да и ты потом.
— У него свои проблемы, — ответила я и вышла из кстати остановившегося лифта.
На автобусной остановке не было ни автобуса, ни желающих ехать. Значит, транспорт только что ушел и увез пассажиров. Ну что ж, постоим. Дима топтался рядом, на лице явное желание поговорить. Ну что ж, поговорим.
— Ты когда уезжаешь? — Или я уже спрашивала? Не важно… Голова болит.
— Сегодня вечером, — обрадовался вопросу Дима. Значит, не спрашивала. Не важно. Голова болит. Где же этот автобус?
— Аля, — оживленно продолжил Дима, — можно я буду тебе писать?
— Можно — разрешила я. Не жалко. Пусть пишет.
— Я следующим летом приеду в академию поступать, и мы увидимся. Да?
— Да. Смотри, твой автобус. Счастливо, Дима!
Дима оглянулся на приближающийся автобус, рывком обхватил меня и, прижав к себе, покрыл мое лицо быстрыми поцелуями. Последний поцелуй прямо в губы, и Дима, отпустив меня, впрыгнул в автобус и замахал рукой.
Я машинально подняла руку в ответном приветствии. Что это, черт подери, он здесь вытворял?
За спиной раздался шипящий звук, и я испуганно повернулась. Толчок отозвался звенящей болью в голове, глаза на миг закрылись, а когда открылись… Лешка… Искаженное бешенством, не похожее на себя лицо. Горящие черные глаза. Из сведенных судорогой губ с пеной вырывается страшный хрип и слова: