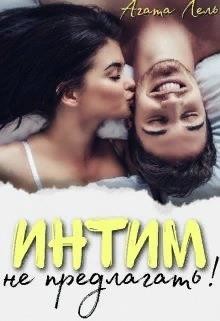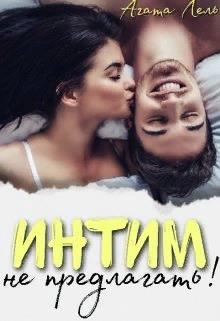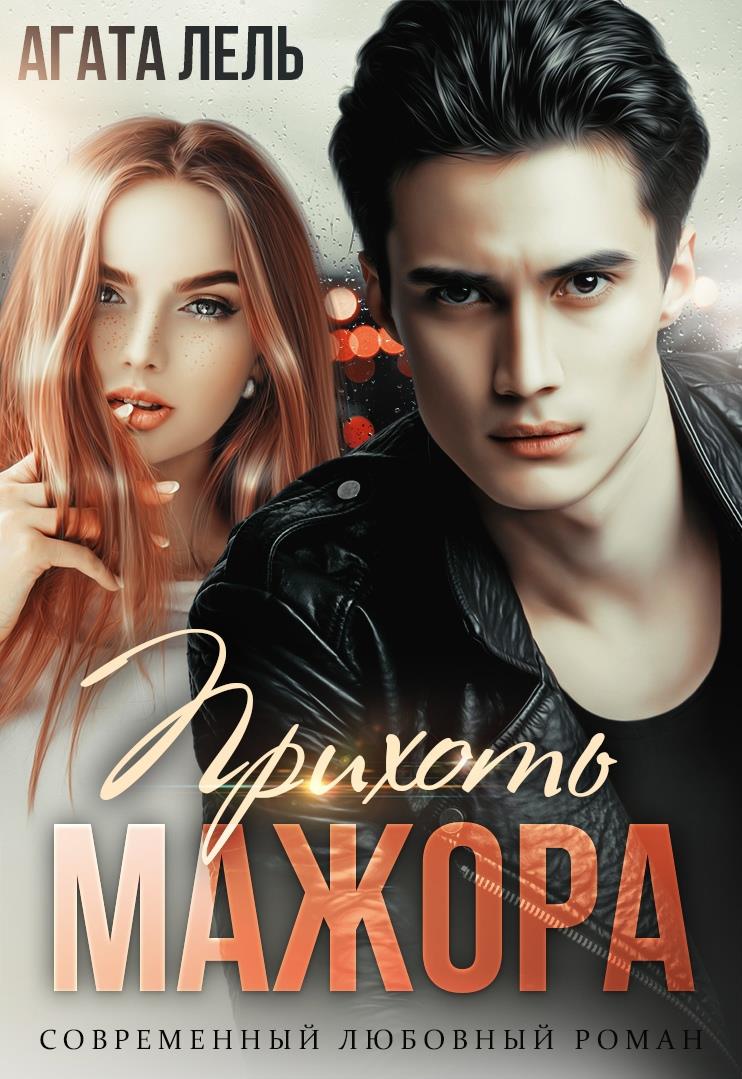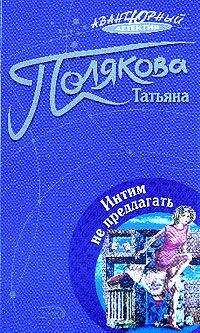— Жень, я вот чай тебе заварила, с мятой, — Цветкова аккуратно ставит на край стола кружку и пристально изучает моё лицо. — Только обязательно выпей. В зелёном чае много антиоксидантов, он очень полезен.
— Спасибо, конечно, но не стоило — я не больна, обслужить себя могу и сама, — отодвигаю чай подальше и утыкаюсь в клавиатуру.
— А кто сказал, что больна? — вспыхивает Анька. — Я такого и не говорила никогда.
— Ага, именно поэтому носитесь со мной как с немощной: то ты, то мама. Последняя аж работу бросила и в Москву переехала. Нет, я вам благодарна за поддержку, конечно, ценю заботу, но не стоит так волноваться, я в порядке, правда. В полном.
— Э-э… Жень, у тебя там раскладка… — Анька осторожно, будто извиняясь, кивает на монитор и я перевожу взгляд следом. Половина вордовской страницы каракуль — английские слова латиницей. А я и не заметила ….
А вчера носки разные надела, а позавчера чуть на лицо вместо крема зубную пасту не нанесла.
— Же-ень, Женёчек, миленькая, всё образуется, — Анька нависает надо мной и, обняв за плечи, целует затылок. — Настоящая любовь она такая — беспощадная. Но всё проходит рано или поздно, любой нарыв затягивается.
— Мой давно затянулся. Так, фантомные боли порой мучают, — произношу как можно равнодушнее. — И не было у меня никакой любви к нему. Не-бы-ло. Хватит уже.
— Хорошо-хорошо, не было — значит, не было, как скажешь, — согласно кивает Цветкова и снова касается губами волос. — Пройдёт, точно говорю.
— Ладно, Ань, иди уже, не мешай, — шутливо ворчу, отпихивая от себя подругу. — Ты же на свидание с Эдиком собиралась.
— Ну вообще, да, он позвал меня погулять… — извиняющим тоном бубнит Цветкова.
— А почему ты всё ещё здесь?
— Ну… С тобой хотела побыть, чтобы тебе скучно не было.
— Ань, я переводы на дом беру. Там порой такие тексты заказывают, поверь — мне не скучно.
— А ты точно не обидишься?
— Ты у меня это каждый раз спрашивать будешь? “Ты точно не обидишься, если я книгу почитаю. Ты точно не обидишься, если я ванну приму. Ты точно не обидишься, если я с Эдиком в кино пойду”. Ань, всё нормально! Живём дальше! — голос лучится оптимизмом, и Анька, хоть и не слишком веря, кивает.
— Ну ладно, побегу тогда. А то звонит уже, — схватив с комода сумочку, Цветкова запрыгивает в любимые босоножки на низком каблуке и оборачивается уже у двери: — Если что — звони. Мы будем неподалёку.
— Иди уже! — улыбаюсь ей вслед, но когда раздаётся звук поворота ключа, улыбка сползает с лица. Роняю голову на сложенные на столе руки, шумно вдыхаю и выдыхаю. Вдыхаю и выдыхаю. Только не слёзы, ещё чего не хватало.
А может, наоборот, поплакать, пока никто не видит? Дома вечно кто-то есть: то мама, которая пока живёт у нас и спит на раскладушке, то Цветкова под ногами мешается.
Как коршуны следят за каждым моим шагом, готовы чуть что наперегонки подстелить соломки. Но я при них держусь — ни слезинки. Первые дни да, оплакивала обиду, разочарование, несправедливость, а потом всё — взяла себя в руки. Нет ничего хуже взглядов жалости и пустых слов утешения. Не надо мне этого.
И вообще, пора бы уже внутренне собраться и вычеркнуть из сердца прошлое, будто совсем ничего не было. Но как это сделать, когда тупая ноющая боль мешает сделать нормальный человеческий вздох? Когда мысленно то и дело прокручиваешь в голове одно и то же, когда хочется лечь навзничь, закрыть глаза и просто исчезнуть?
Какое счастье, что с университетом покончено, видеть его в коридорах было выше моих сил. Трудно было не поддаться, не согласиться его выслушать, игнорировать его звонки и удалять смс не читая. Трудно было не смотреть на него и не искать в толпе знакомый силуэт. Трудно. Но я смогла, чем невероятно горжусь.
А теперь он больше не звонит, уже четыре дня и тринадцать с половиной часов…
Как-то в седьмом классе я сломала руку и думала, что это самая сильная на свете боль. Нет. Боль, которую я переживаю сейчас в сто крат сильнее. На ней бинтов, клякс зелёнки и пластыря, увы, разбитое вдребезги сердце подобным не лечат.
Загорается экран телефона и доносится короткая трель входящего смс. Судорожно хватаю аппарат. Пора пополнить баланс. Просто баланс.
Всё давно закончилось, пора уже прекратить страдать ерундой и не просто говорить живём дальше, а действительно жить.
Отпиваю глоток любовно приготовленного Цветковой чая и кривлюсь — опять сахар не положила. Беру кружку в руки, нехотя поднимаюсь со стула, огибаю сложенную раскладушку и плетусь на кухню, правда, в коридоре зависаю в немом недоумении.
На полу лужа.
Лужа? Откуда?!
Кап.
В лужу с тихим всплеском упала капля. Пока я медитировала, рассматривая расходящиеся по воде круги, упала ещё одна. Задираю голову и вижу на потолке стремительно разрастающееся тёмное пятно.
Вот чёрт, соседи заливают!
А хотя стоп! Какие соседи? Там же не живёт никто, прежние квартиранты — жутко шумная семья съехали несколько недель назад. Видимо, сдали кому-то новому.
Вот только скандала с новыми жильцами мне сейчас для полного счастья не хватало.
Ставлю кружку на стол, нашариваю на полу тапки и, прихватив с крючка ключи, выхожу на лестничную клетку. За какие-то несколько секунд преодолеваю пролёт и оказываюсь возле обшитой мелкими деревянными рейками двери.
Давлю на звонок — внутри раздаются трели, но никто не открывает. Прикладывают ухо к замочной скважине и отчётливо слышу шум льющейся воды. Расположение квартиры здесь точно такое же как и у нас, и я точно знаю, что звук доносится из ванной.
Кто-то открыл воду и уснул? Или ушёл? А может, кому-то стало плохо?..
Звоню ещё и начинаю нетерпеливо барабанить в дверь:
— Эй, есть кто дома? Откройте! Вы нас заливаете!
Неожиданно дверь от ударов поддаётся и с лёгким скрипом приоткрывается. Стало немного жутко заходить в чужой дом без приглашения, но мысль, что кто-то, возможно, умирает сейчас в ванной от сердечного приступа, и только я могу стать для него единственным спасением, придаёт мне храбрости.
Открываю дверь шире, вхожу в квартиру, и первое, что я вижу — это… Малиновский.
Он сидит в прихожей на табурете и неспешно подносит к губам сигарету. Босиком, в мятой чёрной футболке и подкатанных до щиколоток джинсах.
За его спиной в переполненную ванну с грохотом хлещет вода, цветастый половик уже плавает под ногами, но он словно этого не замечает. Он ничего не замечает: он смотрит прямо на меня и невероятно усталое, заросшее щетиной лицо озаряет виноватая улыбка.
Часть 41
Первая мысль — бежать. Бежать без оглядки, лишь бы не смотреть, не видеть небрежно взъерошенную чёлку, голубые глаза и губы которые так настойчиво снятся мне каждую ночь. И я практически поддаюсь порыву — делаю шаг назад, а потом, видя его твёрдый уверенный взгляд понимаю, что он скорее утопит весь дом, но и пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить катастрофу.
Подрываюсь вперёд и, стараясь на него не смотреть, быстро добираюсь до ванной, закрываю вентиль и выдёргиваю пробку. Ноги конечно, намокли, как и штанины пижамы. Нет, я не приготовилась в семь часов вечера ко сну, я просто не переодевалась с самого утра. А зачем?.. Для чего?
Надо было бы промолчать — заставить его всё здесь убирать и гордо хлопнуть дверью, но слова полились непроизвольно:
— Ты что здесь устроил?
— Представь, что это мои слёзы.
— Не смешно! Ты посмотри, что здесь творится, — обвожу мокрый пол рукой. — А теперь представь, что творится у нас на потолке! Мы, по твоей милости, ещё и Клавдию Петровну сейчас зальём.
Злость и шок предали мне уверенности, даже голос не дрожит.
Не вставая со стула он оборачивается всем корпусом на сто восемьдесят градусов и теперь я вижу не его спину, а лицо. И именно в этот момент дамба показного безразличия с треском рухнула — играть в железную леди не выйдет, как ни крути.