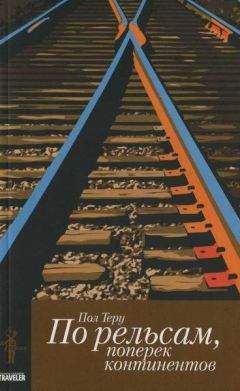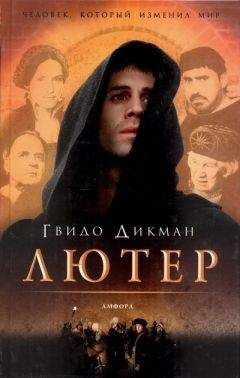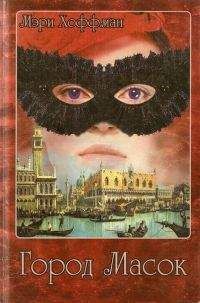— Еще бы она не подвергала себя опасности, — заметил Маттео.
— Жаль, что тут сплошные полунамеки, никакой конкретики, — посетовала я.
— Может быть, у Клары найдутся подробности, если она, конечно, тоже не шифрует все подряд. Хотя что ей еще делать, если вокруг рыщет злобная N.
— Там еще есть, Маттео, но очень кратко и сжато. Как думаешь, сколько лет все это длилось? Даты там не проставлены, но видно, как время течет.
— «La Tempesta» была создана — когда? — в тысяча пятьсот четвертом или около того, да? Дневник Клары начинается в тысяча пятьсот пятом году, тогда она своего Z еще не знала. Оба умирают в тысяча пятьсот десятом? Значит, пять лет, но какие из них описаны тут?
— На последних страницах Таддеа совсем замыкается. На нее что-то давит, и понять ее все тяжелее. Обрывочные заметки, невозможно угадать, сколько времени проходит между записями. И вряд ли она продолжает вести собственный дневник — такое чувство, что всем уже не до радостей.
Мы устроились в гостиной на диване. Я зачитывала переведенные Лидией заметки Таддеа, а Маттео с закрытыми глазами лежал, положив голову на подлокотник.
— А если вкратце, что там происходит? — спросил он.
— Если совсем вкратце, — перелистывая оставшиеся страницы, резюмировала я, — то Клара снова тут, непрекращающиеся проблемы с N; Клара, видимо, помолвлена. Таддеа готовит подарок, снова проблемы дома, Таддеа боится за Клару, Клара заболевает, Клара снова тут, Клара в изгнании, Клара возвращается, Таддеа рада, Z заболевает, его, судя по всему, доставляют сюда, тут теперь лечебница, он умирает. Донна Томаса помогает Кларе. Все. С подробностями небогато.
— К тысяча пятьсот десятому году на монастырь уже начали наседать, после поражения от Камбрейской лиги, о котором говорила Лидия, — заметил Маттео, — хотя пока еще вполсилы. В Венеции перемены, закручивание гаек, поиски виноватых. Начало конца, хотя прежний порядок более или менее сохранялся до Контрреформации. Интересно выходит, когда что-то заваривается в начале века, а потом целое столетие не может разрешиться. Перемены идут медленно, никто не знает, как относиться к новому.
«Правда жизни, Маттео, — подумала я. — Ты об этом?»
— Клара со своим Z попали прямо в водоворот, и их унесло. Мне они представляются кем-то вроде просвещенных, провидцев — они просто ушли первыми. А прочие остались мучиться. У Катены влияние Джорджоне отмечается гораздо позже. Словно он только потом постиг. Надо будет пойти посмотреть на его произведения.
— А ты знаешь, — вспомнила я, — что Люси беспокоится насчет Ренцо?
— В каком смысле?
— Что мы его бросили. Она волнуется, что его это обидит.
— Так отведи его в Академию, пусть поделится мыслями насчет Джорджоне, скажи, что мы интересуемся неоплатонизмом. Представь нас полными идиотами. Он легко поверит. Скажи, что фреска ставит нас в тупик, ничего не можем разобрать.
— Неоплатонизм?
— Философия эпохи Возрождения: гармония, природа любви, божественное.
— Любви? Он, надеюсь, ограничится теорией?
— Он не упустит шанса поразглагольствовать о природе любви перед Люси. И потом, он ведь как-никак крупнейший специалист по Ренессансу. Один из. Узнаешь много нового. И мы тоже, если до нас донесешь.
— Маттео!
— Я не в том смысле, что ты все перезабудешь. Просто от его речей заснуть можно. К тому же он будет распускать хвост, и ты стушуешься. Люси начнет рассказывать ему, какой он гений, а ты будешь думать, как бы половчее слинять. Прости, я, пожалуй, перегибаю. Просто он меня выводит.
— Я буду слушать внимательно. А Люси с ним справится.
— Синьора с кем угодно справится. Не хочу подпускать его к фреске. Слишком она прекрасна.
— Да. Люси говорит, эта девушка — богиня.
— Но Рональду покажем?
— Да. Дух захватывает.
— От чего?
— От всего.
Маттео наконец открыл глаза и посмотрел на меня.
— Захватывает, да, но по правде ли это?
— Что?
— Все.
В комнату просеменил Лео, за ним вошла Люси с книгой в руках. Кинувшись к нам, песик запрыгнул на диван и покрыл мое лицо поцелуями.
— Лео, как ты можешь! — воскликнула Люси. — На моих глазах? Идите сюда, вы оба, я вам кое-что покажу. Поразительная вещь. Сходство не полное, но очень близко. Пойдемте, пойдемте.
Она направилась наверх, в комнату с фреской. Мы послушно двинулись за ней.
Фабио и Альберто на сегодня уже закончили, но в огромное незанавешенное окно еще лился свет. Бархатистая вуаль на фреске стала еще на один слой тоньше, краски ярче. Она ничуть не потускнела за время заточения. Люси, встав между нами, раскрыла книгу. «Портрет Лауры».
— Видите?
Мы завертели головами, глядя то на фреску, то в книгу.
— Да, — наконец ответил Маттео. — Кажется, видим.
— Но она изменилась, — заметила я. — Стала суше, не такая юная. Скулы четче. Выглядит мудрее, жестче. А волосы те же, и глаза.
— Да, и при всей безмятежности, — подхватила Люси, — в ее лице есть какая-то… не знаю… отстраненность, словно она видит то, чего не видим мы, ее что-то притягивает. Она смотрит сквозь нас.
— На что-то, куда направлен свет из-за ее спины, — догадался Маттео. — Этот свет ее манит, ведет за собой. Наш взгляд стремится туда же, к тому, на что смотрит она, только оно в буквальном смысле недостижимо.
— А лев смотрит на нее, — вставила я.
— Да, лев наблюдает за тем, как она смотрит, — подтвердила Люси. — Очень впечатляющий прием. Неужели это наша малышка Клара?
Мы помолчали, разглядывая ее отрешенное лицо.
— Жаль, не видно лица у той, что наверху, — посетовала я.
— Она не хотела его показывать, — ответила Люси.
— Если это Лаура, — рассуждал Маттео, — и если удастся получить на сей счет мнение авторитетных специалистов, то связь будет установлена. А еще этот венок, похоже на лавры — повторяющаяся символика или, возможно, намеренная отсылка. Это все точно неспроста, судя по нашим находкам. Правда, и они пока ничего не значат — за исключением шкатулки. Шкатулка ошеломила даже Рональда, а его не назовешь восторженным любителем. Надо выяснить насчет «Лауры». В подписи должен быть какой-то намек. Там говорится о заказчике, но какой может быть заказчик, если это портрет любимой? Смог бы он отдать его кому-то? Или продать?
— А еще этот портрет слишком откровенный, — вставила я.
— Да, намеренно откровенный. Позже он станет автором первого великого изображения возлежащей обнаженной женской натуры, и тоже не зовущей и манящей, а грезящей, завороженной, как здесь. Посмотрите на эту девушку, — Маттео показал на «Портрет Лауры», — сколько чувственности и в то же время целомудрия. Она преподносит себя, но самым эстетичным образом. Эротичная и невинная. Две Венеры в одной.