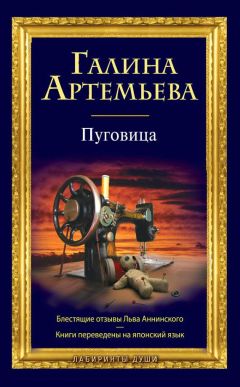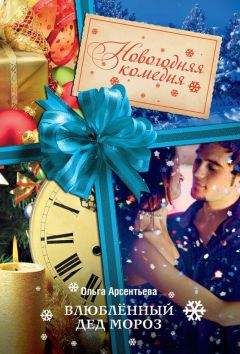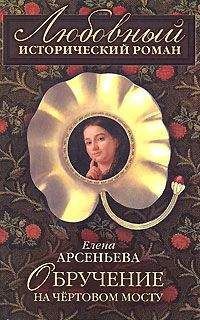Зря она тогда отказалась худеть, подумала Рыся. Похоже, ее еще сильнее разнесло. Сколько ей сейчас годков будет? Она вроде лет на пять постарше… Стало быть, в районе сорока.
Не в меру упитанная женщина в самом расцвете лет… Почти легендарный Карлсон. Только без пропеллера. Зато с огромным запасом злобы.
— Ну, что, Петруччо? Мне что? Стоять? Лежать? Ползти? Бежать? — лениво поинтересовалась Элеонора, качая бедрами.
— Стой пока. Вот так. Эту ногу на скамеечку поставь. Руку на колено. Вот! Оно!
Муж принялся за дело. Он делал эскиз, напевая. Никогда прежде не слышала Рыся эту песню, хотя и знала привычку его петь, что попало, за работой. Он и говорил как-то по-другому. Не с теми мягкими интонациями, как обычно. Сейчас он находился в совсем ином образе. Такой циничный, резковатый и хамоватый плейбой…
В Таврическом саду купил я дачу.
Была она без окон, без дверей.
И дали мне еще жену в придачу —
Красавицу Татьяну без ушей…
Смешная песня. Рыся расстроилась, что муж ей никогда не пел ничего подобного. А они ведь в детстве собирали всякие подобные глупости, веселившие их до невозможности. Как это песня про «красавицу Татьяну без ушей» прошла мимо них? И еще… Этот, другой, Петр нравился ей не меньше своего, привычного. Интересно, когда он притворяется?
Сейчас или с ней, своей женой?
Или всегда?
Или никогда?
Еще ее по-детски кольнуло: про жену поет, что хочет «поднять ее и стукнуть о пенек». Это, конечно, всего-навсего песня такая, но мог бы при этой… другую какую-нибудь спеть.
Элеонора, словно подслушав размышления Рыси, нагло спросила:
— О своей поешь? О вобле глазастой?
— Это ты о ком?
— О жене твоей! О Регине Артемьевне, матери всех скорбящих жирнозадых и толстобрюхих… Ее хочешь?.. Об пенек?..
— Нет, — ответил Петр спокойно. Он был занят делом, беседа с обнаженной натурой его не особо трогала. — Об пенек — это о тебе…
— Ого! Так жена-красавица — это я?
— Ну, если ты Татьяна… Ты — ну-ка… давай теперь присядь вот так… И на вот, платок на одну грудь накинь… Ногу одну подогни… Откинься… О! Отлично!
Усевшись так, как требовалось Петру, голая баба решила почему-то продолжить разговор на тему песни.
— А она у тебя правда без ушей. И без глаз. Неужели все эти годы ни о чем не догадалась?
— О чем она должна была догадываться все эти годы?
Голос мужа звучал уже не так, как минуту назад. Петр явно терял рабочее настроение. Элеонора его достала.
— «О чем она должна была догадываться все эти годы?» — передразнила его натурщица. — А то ты не знаешь, о чем… Вдруг мы все позабымши… О том, что со мной с первой начал сношаться… С первого дня на курсах этих долбаных… Повел меня сюда, оттрахал-отымел… Скажешь, она об этом знает?
Петр ничего не отвечал. Он ожесточенно работал.
— И кто мне велел не худеть? А? Кто мне говорил, что вся красота и жизнь содержатся в такой, как я, а не в этих худосочных эгоистках? Может, это я все придумала? Ты говорил!
Петр молчал.
— И скажешь, что тебе ее хватает? На все про все? Если б хватало, ты б о моей-то радости и не вспоминал… Не норовил бы забраться в нее… А? Не так, что ли?
— Перестань, а? — попросил Петр. — Не заводи… Дай дело доделать…
— Все должно быть по-твоему, да? — продолжала Элеонора, не меняя сложной позы, в которой велел ей оставаться художник. — Ты, как захочешь, должен иметь, а я, как мне надо, должна сидеть и ждать враскоряку?
— Ладно, — засмеялся непонятно чему Петр. — Давай! Захотела, да? Ну, давай! Избушка-избушка! Повернись к лесу передом, ко мне задом! И немножко наклонись!
Видимо, Элеонора привыкла себя чувствовать той волшебной избушкой, которая выполняла приказания своего повелителя, не рассуждая.
Она действительно повернулась «к лесу передом» — привстала на четвереньках лицом к зашторенным окнам. Петр приблизился к возвышению для натурщиков, расстегивая штаны.
Рыся видела огромный белый зад Элеоноры и спину своего мужа. Он даже брюки снимать не стал…
— Ну, что, поехали?
Петр спросил нетерпеливо, по-деловому, как у бомбилы на дороге, когда срочно надо куда-то добраться и уже неважно, сколько с тебя запросят за проезд.
Рыся закрыла глаза и старалась ничего не слышать.
Она только думала, что вот наконец-то и случилась та беда, которую она в последнее время ждала-предчувствовала. И — странно — радовалась тому, что беда эта оказалась такой… Как бы это сказать… Легко перевариваемой, что ли… Дело в том, что все живы… Все любимые живы и здоровы! Просто, кажется, одним любимым человеком станет рядом меньше… Но и он — жив и здоров. И останется рядом… Пока она сама для себя все не решит.
К счастью, все у тех, внизу, закончилось быстро…
Петр снова усадил свою «избушку» так, как она сидела до их скоротечных утех, и принялся за работу.
— Но знаешь, — задумчиво произнесла Элеонора. — Я думаю, пора твоей слепоглухонемой все понять.
— Что ты хочешь? Дай мне спокойно поработать, а?
— Хочу, чтоб она о сыне узнала, вот что я хочу. А то ты не в курса́х, ангел небесный! У тебя сыну тринадцать лет, и ему ничего практически не обламывается, одни объедки с барского стола. Тот, ее щенок, по заграницам отдыхает, языки иностранные изучает… белый человек! А мы кто для вас?
Сын? У Петра с этой… — сын?
Вот это уже серьезный удар. Это — да! То есть ее муж, ее любовь, ее счастье вел все эти годы двойную жизнь… У него сын родился, когда она, Рыся, наслаждалась новой ролью молодой жены… Да как же так? Да возможно ли такое? И никогда ничем не дал он понять… Всегда веселый, нежный, добрый… Всегда свой, родной…
— С какой это стати она живет и ничего не знает? — трубила Элеонора. — Я — мучайся! А она — наслаждайся жизнью? Пусть и она знает!
— Все! — крикнул вдруг Петр так, что даже бегемотная пуленепробиваемая секс-натурщица его вздрогнула. — Все! Ты тут меня раскачивала, чтоб поговорить… Ну, тогда слушай. Слушай внимательно, потому что это в последний раз. Насчет знает — не знает моя жена. Это не твое дело. Потому что она — жена. Единственная. Другой не будет, даже если ты сведешь нашу с ней жизнь на нет.
Ты. Ты была первой, десятой, сотой — неважно. Она — единственной. И я тебе много лет назад сказал: как только она узнает, все, ты меня больше не увидишь. О ней — все. Точка. Скажешь ей, найдешь ее — тут я помешать не смогу. Я ничего говорить ей не собираюсь. Не из трусости. Просто хочу, чтоб она чувствовала себя счастливой. Она долго была несчастлива. Она заслужила спокойную жизнь. И я такой, какой есть, не само совершенство и не идеал, пообещал сам себе, что одному человеку на свете добрую жизнь обеспечу.