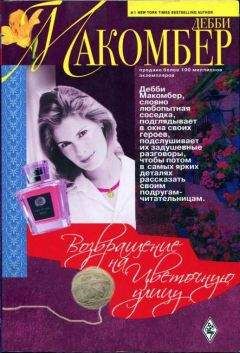Дойдя до своей двери, Йенни остановилась и протянула Гуннару руку.
– Спокойной ночи, Гуннар, – сказала она тихо. – Спасибо тебе…
– Тебе спасибо… Спи спокойно…
Хегген открыл окно. Как раз против его окна ярко выделялась облитая лунным светом желтая стена с закрытыми ставнями и черными железными балконами. На заднем плане высился Пинчио с темной сверкающей массой зелени под зеленовато-синим небом. Ниже теснились поросшие мохом крыши над черными домами.
Гуннар высунулся в окно. На сердце у него было тяжело, и его охватило уныние… Черт… ведь не привередник же он… но видеть Йенни в таком состоянии…
И подумать, что он сам вовлек ее в это! Он хотел развлечь ее, потому что в первые месяцы она вся как-то трепыхалась, словно птица с подбитыми крыльями. Конечно, он думал, что он и она будут только злорадствовать, глядя на прочую компанию… на этих мартышек… Разве он мог предположить, что это так кончится?…
Он услыхал, что она вышла из своей комнаты и прошла на крышу. С минуту Хегген стоял в нерешительности. Потом он тоже пошел на крышу.
Йенни сидела на единственном стуле, стоявшем позади маленькой беседки из жести. Выше под коньком крыши сонно ворковали голуби.
– Ты так и не ложилась еще, – сказал он тихо. – Ты простудишься… – Он принес ей ее шаль из беседки и сел на выступ стены между горшками с растениями.
Некоторое время они сидели молча и смотрели на заснувший город, купола и колокольни которого точно плавали в лунном тумане. Йенни курила. Гуннар тоже взял папироску.
– Да, я заметила, что ничего больше не переношу… в смысле питья, хотела я сказать. Меня сразу валит с ног, – сказала Йенни виновато.
Он заметил, что она была уже совершенно трезва.
– Знаешь… мне кажется, что тебе следовало бы на время прекратить это, Йенни. Да и курить тебе тоже нельзя… во всяком случае – так много. Ведь ты сама жаловалась на сердце…
Она ничего не ответила.
– В сущности, ведь ты со мной вполне согласна в том, что… касается этих людей. Не понимаю, как ты можешь снисходить до их общества…
– Бывают минуты, – проговорила она тихо, – когда необходимо… усыпить себя, попросту говоря… одурманить. Ну, а что касается снисхождения, то… – Он посмотрел на ее бледное лицо. Ее непокрытые белокурые волосы сверкали в лунном освещении. – Да, иногда мне кажется, что так это и должно быть… Хотя в настоящий момент, например, мне стыдно. Теперь, видишь ли ты, я необыкновенно трезва, – она слегка засмеялась. – Тогда как бывают минуты, когда я далеко не трезва, если я ничего и не пила… Вот тогда-то у меня и является неудержимое желание… проводить так время…
– Это опасно, Йенни, – проговорил он шепотом. Немного помолчав, он прибавил: – Право, должен сказать откровенно, что… мне глубоко противны такие кутежи, как сегодня. Я уже достаточно повидал всего… И я ни за что на свете не хотел бы видеть, что ты падаешь… чтобы кончить, как Лулу…
– Ты можешь быть спокоен, Гуннар. Так я, во всяком случае, не кончу. Ведь, по правде говоря, мне такая жизнь не под силу… Я сумею поставить точку вовремя… Он молчал и смотрел на нее.
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, – заметил он тихо. – Но, Йенни… и другие думали, как и ты. Но когда человек начинает спускаться по наклонной плоскости…тогда он уже не способен больше… поставить вовремя точку, как ты говоришь…
Он спустился с выступа, подошел к ней и взял ее за руку.
– Йенни… брось это… право, брось… Она встала и грустно засмеялась:
– На некоторое время, во всяком случае. О, мне кажется, что я надолго вылечилась от стремления к кутежам.
С минуту они стояли молча. Потом она крепко пожала его руку.
– Ну, спокойной ночи… Завтра я буду позировать, – прибавила она, уже спускаясь с лестницы.
– Отлично. Спасибо.
Хегген еще некоторое время сидел на крыше. Он курил и думал, поеживаясь от холода. Но наконец и он ушел к себе.
На следующий день сейчас же после завтрака Йенни пошла к Гуннару и позировала, пока не начало смеркаться. В маленькие перерывы, пока она отдыхала, они болтали; он писал фон или мыл кисти.
– Довольно! – сказал он наконец, откладывая палитру и принимаясь приводить в порядок ящик с красками. – На сегодняшний день ты свободна!
Она встала и подошла к нему, и некоторое время они молча рассматривали портрет.
– Ну, как ты находишь мою работу, Йенни? – спросил он.
– Я нахожу, что это написано необыкновенно хорошо, – ответила Йенни с искренним восхищением.
– Я рад… Но, послушай, уже поздно и нам пора обедать, – сказал он, глядя на часы. – Пойдем вместе?
– С удовольствием. Я только пойду переоденусь. Ты подождешь?
Немного спустя, когда Гуннар постучал в дверь Йенни, она стояла уже одетая перед зеркалом и надевала шляпу.
«Как она прелестна», – подумал он.
Ее стройную высокую фигуру изящно обрисовывал старый английский костюм, придававший ей строгий и холодный вид. Ее фигура дышала таким благородством и целомудрием, что Гуннар устыдился своих мыслей…
– Ведь ты, кажется, собиралась пойти сегодня к фрекен Шулин, чтобы посмотреть какую-то коллекцию? – спросил он нерешительно.
– Да, но я решила не идти, – ответила Йенни, густо краснея. – По правде сказать, у меня нет ни малейшей охоты продолжать это знакомство… да и ее коллекция навряд ли представляет собою что-нибудь интересное…
– Да, в этом ты можешь быть уверена… Я только не понимаю, Йенни, как ты могла терпеть вчера ее приставания…
Йенни засмеялась. Потом она сказала серьезно:
– Бедная… В сущности, она, должно быть, несчастна…
– Ах, не говори так!.. Несчастна!.. Я встречался с ней в Париже в 1905 году… Хуже всего то, что она вовсе не извращена по натуре. Она только глупа… и тщеславна. Ну, а теперь это в большой моде. Если бы было в моде быть добродетельной, она, наверное, сидела бы теперь у домашнего очага и штопала бы детям чулки… а в виде развлечения рисовала бы время от времени розы, покрытые росой… И она была бы самой прекрасной хозяйкой и от души наслаждалась бы жизнью. Ну, а раз случилось так, что она как бы сбилась со своего настоящего пути, ей захотелось, по крайней мере, быть модной… свободной и художницей… И чтобы не потерять уважения к самой себе, она завела даже любовника. Но к своему великому огорчению, она напала на наивного человека, который стал требовать, чтобы она самым прозаическим образом вышла за него замуж, потому что она ожидала от него ребенка, и чтобы она посвятила себя – совсем по-старомодному – ребенку и домашнему очагу…
– Почему ты знаешь, может быть, Паульсен сам виноват в том, что она ушла от него?
– Да, конечно, он виноват. Он оказался старомодным, потому что любил тихую семейную жизнь…