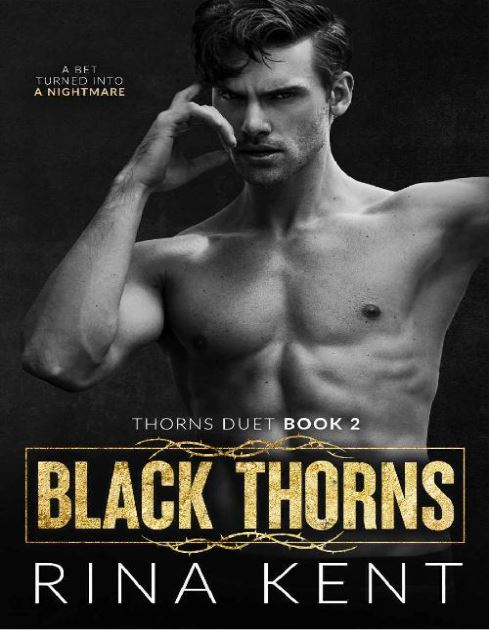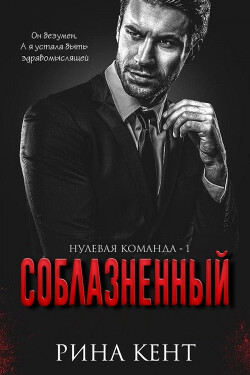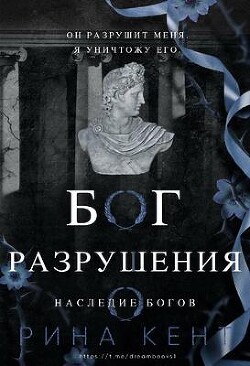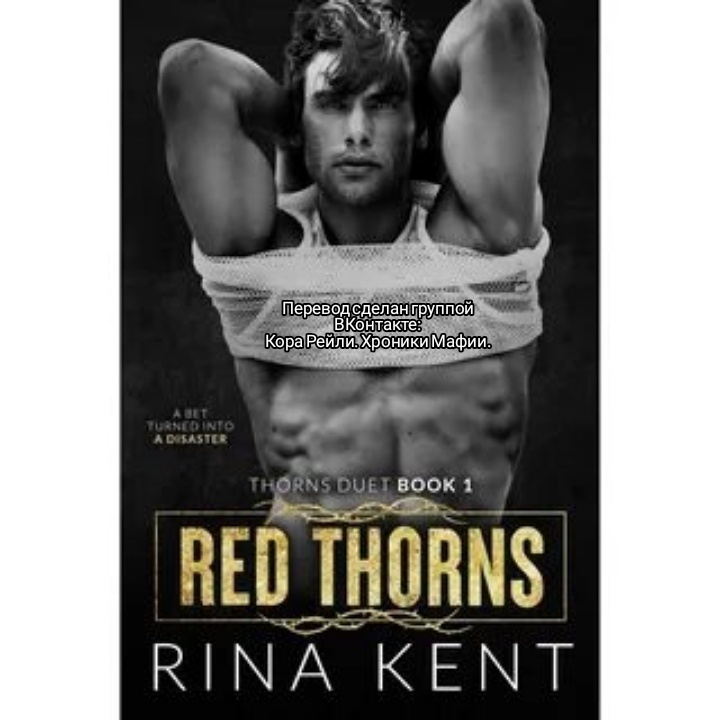игра.
Но ничто из этого не сравнится с пульсирующей болью в верхней части моего плеча. Как будто невидимые руки роются в моей ране, копаются и скручивают, пока у меня не перехватывает дыхание.
Если бы я был один, это было бы терпимо. Если бы Наоми не прижимала к ней рубашку с отчаянием, от которого приглушается цвет ее темных глаз, когда влага прилипает к ее длинным ресницам и образует линии на раскрасневшихся щеках.
Смотреть, как она плачет, равносильно тому, чтобы вонзить осколок стекла себе в грудь.
Мне не нравится видеть, как ей больно, особенно если это из-за меня.
Теперь мы оба осматриваемся вокруг, чтобы найти голос, который заполнил комнату несколько секунд назад.
— Пусть игры начнутся, — сказал он.
Наоми упомянула, что узнала его в лесу и что он мог быть одним из людей ее отца.
Однажды она сказала, что искала своего отца и что ее мама не хотела, чтобы она связывалась с ним, что является одной из основных причин, по которым ее отношения с мамой были натянутыми.
Но почему мне кажется, что мои бабушка и дедушка могли бы приложить к этому руку?
Папа сказал это пятнадцать лет назад: «Ты была там, когда они сказали, что придут только на мои похороны. Не удивлюсь, если они приложат руку к ускорению процесса».
Бабушка явно была против любых отношений, которые у меня были с Наоми, точно так же, как она была против брака моих родителей.
Нейт всегда предупреждал меня быть осторожным, чтобы я не разделил судьбу своего отца.
Мало того, он поставил перед собой задачу действовать как своего рода невидимый щит между мной и миром, включая моих бабушку и дедушку. Как будто он точно знал, на что они способны.
Но они бы не пристрелили меня, верно? В конце концов, я будущий лидер клана Уиверов, как они любят мне напоминать.
Хотя все возможно, если цель состоит в том, чтобы преподать мне урок.
Я снова пытаюсь сесть, но Наоми кладет мягкую, но твердую руку мне на грудь, запрещая.
— Я в порядке, — напрягаюсь я.
А нет. Простое движение похоже на поднятие тяжестей моими чертовыми зубами. У меня кружится голова, и рана пульсирует, просто пиздец.
Но я не могу сказать об этом Наоми, иначе она испугается и обидится еще больше, чем сейчас.
Холодный бетонный пол царапает мое бедро и ладонь, когда я медленно сажусь и прислоняюсь к стене. Несмотря на ее протесты.
— Тебе больно… — ноет она, но отказывается от попыток остановить меня и помогает принять удобное положение.
Свежие слезы текут по ее щекам, когда она осторожно поворачивается так, чтобы оказаться на моем раненом боку. Она по-прежнему решительно сжимает свою футболку, как будто отпустив ее, жизнь испарится из меня.
Или позволит мне истечь кровью.
Мне не нравится видеть, как она плачет. Да, да, но только когда я преследую и побеждаю ее, потому что я знаю, что ей это тоже нравится.
Я люблю ее трахающие меня слезы.
Ее «нет, пожалуйста», которые на самом деле были слезами «да, пожалуйста».
Но не эти.
Боль и отчаяние в них чертовски выворачивают меня наизнанку.
Мне не нравится, когда ей грустно или больно. Это еще более болезненно, чем если бы это были мои собственные чувства. Я могу отмахнуться от них, эффективно с ними справиться и отодвинуть их на второй план.
Хотел бы я сделать то же самое с Наоми. Хотел бы я забрать ее чувства и относиться к ним как к своим, чтобы ей больше не было больно.
Это… что похоже на сочувствие?
— Эй… — я ладонью кладу ладонь на ее щеку, смахивая большим пальцем собравшуюся там влагу. — Я действительно в порядке.
— Ты не выглядишь в порядке, — бормочет она.
— Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Хочешь сделать лучше?
— Конечно.
— Тогда перестань плакать, детка. Это больнее, чем сама рана.
Она всхлипывает, вытирая лицо тыльной стороной ладони.
Статика снова заполняет комнату, и мы оба напрягаемся, когда тот же голос из прошлого снова говорит: — Очень трогательно. Ты чуть не усыпил меня.
— Чего ты хочешь от нас? — взгляд Наоми ищет комнату, и когда я делаю то же самое, я замечаю несколько мигающих камер в углах и белый динамик, из которого до нас доносится его голос.
— Я уже говорил тебе. Игра.
— Ты один из людей моего отца?
— Что натолкнуло тебя на эту мысль?
— Мама сказала, что ты был.
— Сато-сан много чего говорит. Лучше не верить им всем. А теперь, что касается нашей игры…
— Мы не играем, — ворчу я, затем морщусь.
Такие больные люди, как он, получают удовольствие от того, что ведут других к точке невозврата. Им нравится раздевать людей до их самых примитивных форм, где они могут свободно их эксплуатировать. Мы ни за что не доставим ему радость видеть, как мы выходим из-под контроля.
— Кто сказал, что у тебя есть выбор, квотербек? Либо играйте, либо не будет воды и еды. О, и в твою рану попадет инфекция, и ты умрешь.
Мои губы кривятся, и я ругаюсь себе под нос. Я должен был догадаться, что они используют наши основные потребности против нас.
Должен же быть какой-то способ помешать его планам…
— Если мы согласимся, ты поможешь ему? — спрашивает Наоми.
Я качаю головой. Она играет ему на руку, показывая, что заботится о моем благополучии. При других обстоятельствах я бы схватил и расцеловал ее до чертиков, но прямо сейчас мы не знаем, с чем на самом деле имеем дело.
Это может быть группа изгоев, которая восстает против ее отца. Или, может быть, сам ее отец — больной ублюдок, который не заботится о том, чтобы поставить собственную дочь в ужасное положение.
Пока мы не выясним их точку зрения, нам нужно быть особенно осторожными чтобы выжить, а это означает, как можно меньше рассказывать о себе.
— Никаких обещаний, — говорит мужчина, Рен, как назвала его Наоми. — Теперь игра. Начнем с правил. Без лжи. Я серьезно. Мы узнаем, когда вы солжете, и если вы это сделаете, будет наказание.
— Что это за игра такая? — спрашиваю я.
— Я рад, что ты спросил, квотербек. Мы называем это выживанием наиболее приспособленных. Прямо как твоя татуировка.
Я не упускаю из виду улыбку в его голосе, когда он произносил последнюю часть.
Он знает о моей татуировке, и он японец.
Ни хрена не может быть, чтобы все это было простым совпадением.
— Теперь, давайте начнем. Я буду полегче с