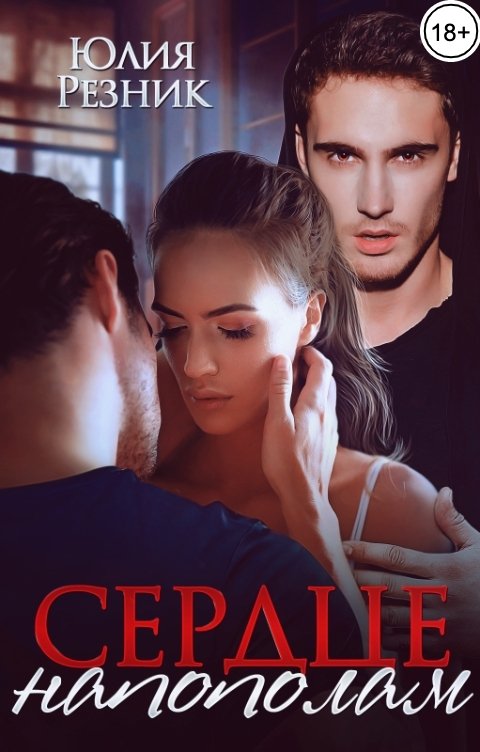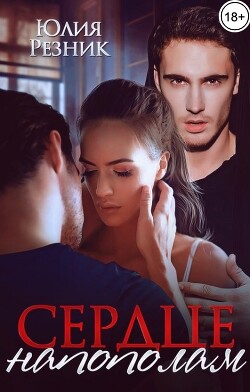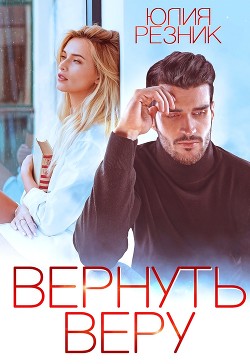class="p1">— Тут пять миллионов. Жилье тебе предоставят от конторы, Кэт, а это… На первое время.
Мне не понять… Мне, сука, не понять совсем, как до него не доходит, что у меня забрали что-то гораздо более ценное? Почти все… Все, что у меня было, забрали. И никакими деньгами этого не измерить и мне не вернуть.
— Деньги оставь себе. А вот дочь я заберу. Думаю, ребята из серьезной конторы, в которой я теперь имею честь работать, не позволят меня обидеть.
— Кэт, пожалуйста… Она ее мамой зовет! Верней, стала называть недавно, но…
Он бьет наотмашь, не щадя. Я, как в идиотской мелодраме, опускаюсь на колени в придорожную пыль. Я задыхаюсь, округлив рот… Меня не становится.
— Прости! Ну, пожалуйста, прости! Я мудак, да. Черт. Я просто хочу для нее лучшего! У нас все хорошо. У тебя тоже будет. Постепенно все наладится, Кэт, обязательно. Ты сможешь ее видеть, клянусь, слышишь?! Но не так же… Не травмируй её, прошу. Уж кому, как не тебе знать, как мать может испоганить жизнь своему ребенку. Не уподобляйся своей мамаше!
Останься во мне хоть толика чувств, кроме боли, я бы восхитилась такой шикарной манипуляцией. Но чувств нет. А боль… Боль вырывается из груди неразборчивым хрипом, боль сочится из глаз дождем, прибивая дорожную пыль.
— Что ж ты делаешь, а? Как тебя земля носит?
Я не хочу… да и не смогла бы, даже если бы очень захотела, озвучить свои претензии. Зачем напоминать о том, что он мне по гроб жизни обязан, если я сама никогда не относилась к этому так? Любила? Да. И именно потому я не могла иначе.
А вот любил ли он? Хоть когда-нибудь… сука… меня… любил?
— Дай мне время ее подготовить! Прошу тебя. Хотя бы неделю, Кэт! Просто выслушай мои аргументы. И если они покажутся тебе несостоятельными, я отвезу тебя к ней прямо сейчас. Но для начала подумай, как это отразится на Сашкиной психике. Не ломай ты ее в пику мне.
Он как будто хочет меня обнять, но я отшатываюсь в сторону. Встаю, помогая себе рукой. Голова все сильнее кружится…
— Звони ей…
— Кэт! Это не лучшая идея, честно…
— Звони. Скажи, что мама хочет поговорить. Настоящая мама, — не могу себя удержать от издевки.
Реутов пробегается пальцами ото лба к затылку, приглаживая волосы. Даже в такой ситуации он выглядит как истинный аристократ. И я все еще до боли его люблю.
— Хотя бы этот гребаный звонок ты мне должен!
Он бросает на меня злобный взгляд. И прикладывает-таки трубку к уху.
— Привет, Сашунь. Слушай, тут такое дело… Я рядом с мамой Кэт. Да, той, которая была далеко… Поговоришь с ней?
Кэт
— Алло… — шепчет Сашка в ухо. А я… Ч-черт, горло так сжалось, что ни слова не могу из себя выдавить. Пауза затягивается. И как назло, в трубке даже помех нет. Только мое затянувшееся молчание.
— Привет, Вороненок, — сиплю. — Это мама. Никакая ни Кэт. Просто мама.
Кажется, эта короткая речь стоит мне остатков всего.
— Привет.
Два слова она сказала. Алло и привет. Наверное, этого недостаточно, чтобы судить. Но я же и раньше с ней говорила, может, не так часто, как мне бы того хотелось. Сашка действительно в последнее время стала отлынивать от разговоров со мной, как от возложенной на нее повинности, но я все же могу с уверенностью утверждать, что речь у нее поставлена идеально. Как и положено дочери дипломата. Ни за что не догадаешься, что ей неполных шесть лет. Реутов говорил, что сам ею занимается. На кружки водит, то-се… А помогает няня. Не знаю, правда ли это. Я уже вообще ничего не знаю.
Солнце все сильнее печет, плавя тело и мозг. Выступает на коже мерзкой масляно-соленой пленкой. По спине и вискам аж течет. Но мне все равно.
— А я свободна. Представляешь?
Реутов пинает колесо. Ах да! Мы же договорились ничего ей не рассказывать. Потому что как рассказать ребенку, что его мать в тюрьме? Тогда мне это показалось хорошей идеей. Сейчас… Я просто не знаю. Шестерёнки в голове плавятся от жары. И непонятно даже, где жарче — внутри меня или снаружи. Внутри — так просто адова геенна. Гребаное чистилище.
— То есть я хочу сказать, что мы теперь никогда-никогда не расстанемся. Слышишь, Сашка? Будем вместе жить. Ты, я. Куда-нибудь съездим вместе.
— Я живу с папой и… Никой.
Вороненок запинается. Я знаю, что она хотела сказать. И благодарна, что этого все-таки не случилось. Видит бог, я пока не понимаю, как жить в мире, где моя дочь зовет мамой другую женщину.
— Но ведь это потому что меня не было. Помнишь, как нам было весело? Зоопарк помнишь? Реутов, где был тот чертов зоопарк?! — захлебываясь в истерике, уточняю, зажав рукой микрофон.
— В Лейпциге. Кэт, послушай, ты сейчас не в себе. Выпей воды. И вот успокоительное.
Отмахиваюсь от таблеток.
— В Лейпциге, Вороненок! Помнишь?!
— Нет.
— Ради бога, Кэт, ей тогда едва исполнилось два гребаных года!
У этого мудака слезятся глаза. Я не помню, видела ли когда-нибудь Реутова таким размазанным. Его эмоции взрываются внутри запрещенной кассетной бомбой. И Сашкино «нет» — оно не добивает, оно…
— А сказки? Сказки помнишь? — хриплю.
— Мам, ко мне пришел репетитор. Я тебе потом позвоню, ладно?
В трубке раздаются гудки. Рука безвольно падает вдоль тела. Надо найти в себе силы и вернуть ему трубку. Надо. Найти. Где-то. Силы.
— Кстати! Я твой телефон привез. Может, все-таки вернемся в машину?
Еще пять часов с ним? В замкнутом пространстве тачки? На месте, на котором, очевидно, не раз сидела его новая баба? В отчаянии тру глаза. Делаю пару шагов к внедорожнику. Тяну на себя дверь. Реутов за спиной шумно выдыхает, не пытаясь даже скрыть охватившего его облегчения.
— Где, говоришь, мой телефон?
Догоняет, садится за руль. Открывает бардачок и протягивает мне тот вместе с коробкой:
— Счет я пополнял. Так что номер тот же.
— Это не мой телефон.
— Да, это новый. На старом сдохла батарея. Но вся информация перенесена из Айклауда. Даже значки приложений в том же порядке расставлены на экране. Я все проверил, — пытается он шутить. — Чего не садишься?
— Я никуда с тобой не поеду. — Забираю телефон. Сгребаю брошенный на сиденье рюкзак и закидываю на плечо. Движения выходят медленными-медленными. Я немного заторможена сейчас, как под седативными. Видимо, так организм борется со стрессом.
— Кэт, я понимаю,