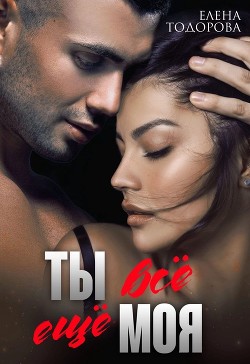Но, блядь… Тогда еще просто не понимал, что мелкий сученыш сумеет пробить мою бронь.
– Твоя Маринка? Твоя?! – завопил он в какой-то момент, задыхаясь от эмоций, словно от астмы. – Думаешь, она такая вся чистенькая? А ты в курсе, что ее чуть не раскатали на толпу?! Это она тебе рассказывала?
Я, ясное дело, оцепенел. А Орос, уловив мое абсолютное потрясение, зло заржал.
– Ту ночь, когда мы столкнулись в баре, помнишь? Где ты был, пока на ней рвали шмот? Где ты был, пока ее втаптывали голой в грязь? Где ты был, пока ее в шесть рук шлифовали? Трахал очередную шмару? А я спасал Рину! Я!!! Вырвал ее из вонючих лап ублюдков, когда один из них уже членом о ее задницу терся! Я был с ней после! Я!!! На моем плече она плакала! А ты, блядь, даже не знаешь о том, что с ней случилось! Никто не знает! Только я! Я!!! Она, возможно, только благодаря мне жива осталась!
Я развернулся и вышел. Не глядя по сторонам, выбрался на улицу. Сел в тачку и уехал. К даче Чарушиных, на пирс притащился бессознательно. В тот момент я просто не давал своему мозгу работать. Блокировал мысли. Покорялся инстинктам.
И что же на месте? Я задыхаюсь от боли. Она нарастает за моей грудиной как нечто физическое, но не имеющее норм развития и пределов мощности. Разворачивается как нечто неуклюжее и невообразимо габаритное, грозящее разорвать меня к херам. Пульсирует как нечто запредельно злое и зверски отчаянное, сводя меня с ума.
Я смотрю на бурлящее синевой море, слушаю шум волн… А вижу свою мелкую, хрупкую и беззащитную Маринку. Представляю, что с ней происходило. Вспоминаю тот момент, когда она упала на сцене и будто у меня на глазах разбилась. По телу такой озноб несется, что при содрогании все мышцы болью и жаром сводит.
Чувствовал ведь, что нечто страшное с ней случилось.
Но тогда думал, что из-за меня сломалась… Думал, что мои слова и действия ее так сильно ранили… Думал, что сердце ей разбил… А это была вся она. Разорвали.
– Дань… – разрезает пространство Маринкин тихий голос. Проходя расстояние, будто физически мне в затылок ударяется. Простреливает все нервные окончания там. Взрывает, раскидывая по сторонам жар. В голову бьет, по плечам, рукам и по спине скатывается… Пока не охватывает все. – Данечка…
Заставляю себя обернуться. Заставляю себя встретиться с ней взглядами. Заставляю себя в этот же миг упрятать все свои чувства.
Не знаю, что по факту получается. Потому как Маринка тоже строит невозмутимость, но в глазах я вижу беспокойство. А еще… В них горит страх. Тот самый, который относительно нее так хорошо знаком мне.
Не разочаровать… Не оттолкнуть… Не потерять…
«Не отдам… Не отдам… Не отдам…», – уверен, что сейчас мы выдаем это вместе.
– Что ты здесь делаешь? – улыбается моя сильная девочка. И у меня еще крепче болит. Разрывает, блядь! – Почему ты уехал, ничего не сказав?
– Извини, – сиплю почти ровно.
Она с готовностью кивает. А я, не сдержавшись, пристально ее разглядываю. Смотрю будто другими глазами. Особенно четко подмечаю то, насколько она маленькая и худенькая.
Какая тварь посмела только подумать к ней прикоснуться?
Мать вашу… Мать!
Это тот момент жизни, когда я ненавижу всю нашу огромную Вселенную. Когда я готов ее уничтожить ради своего мира – Маринки.
– Пойдем в дом, Дань, – зовет она.
И я, моргнув, затуманенным взором смотрю на место, где прошла большая часть нашего детства.
– Идем, Дань… Пожалуйста…
Иду, конечно. Просто делаю то, о чем она просит. И на том вся моя мотивация.
На улице не холодно, но когда мы оказываемся в доме, меня вдруг начинает потряхивать, будто мороз из тела выходит.
Маринка ничего не спрашивает. Ни одного вопроса не задает. Ее будто бы вовсе не волнует, как прошел наш с Оросом разговор. И это, на самом деле, очень показательно.
Она боится спрашивать.
Мать вашу… Моя Маринка боится!
Она проходит на кухню. Я – следом за ней, ускоряя шаг. Не даю ей сделать то, зачем она сюда шла. Обнимаю сзади. Вдыхая запах волос, скольжу ладонями на живот. Только когда руки там замирают, осознаю: она ведь уже была беременна, когда это случилось.
И все. Меня взрывает.
– Это правда? – лишь по тому, как ломается мой голос, можно понять, о чем я спрашиваю.
Маринка понимает.
Вздрагивает. И судорожно вздыхает.
– Что именно, Дань?
– Насилие… – даже произносить это слово стремно. Оно вырывает нутро и, протаскивая его наружу, обжигает по пути всю слизистую. – Ответь мне, Марин… Да или нет?
– Черт возьми… – выдыхает она со свистом.
Кажется, что злится. Не желает, чтобы я знал. В этом плане сейчас ее понимаю как никто. Но мне нужно знать!
– Ма-ри-на, – дожимаю интонациями.
И она вновь вздрагивает. Издавая какой-то сдавленный, будто всхлип, звук, начинает трястись.
Мне отчего-то охота обнять ее крепче и закружить по комнате. Так быстро и так долго кружить, пока не забудет все, что есть в голове.
– Они пытались… – выдает, наконец, Маринка. И принимается плакать… Нет, не просто плакать. Судорожно рыдать. – Зачем ты спросил? Зачем он сказал? Зачем???
– Маринка… – мычу я. Иначе не скажешь. Во рту сухо, а язык разбухает. – Маринка…
Мне страшно. Мне больно. Мне адски хреново.
И она внезапно начинает биться в моих руках как в припадке.
– Пусти… Пусти! – вопит, надрывая горло, пока не срывается голос. Царапая мои ладони, пытается их от себя отлепить. Телом всем дергается. Я ее тупо едва не роняю на пол. – Не держи так! Не держи! Они так держали!!! Пусти!!!
Господи… Боже… Мать твою… Мать…
Позволяю ей обернуться, но быстро ловлю обратно. Фиксируя у холодильника, заставляю смотреть в глаза. Все лицо мокрое, а они переполнены слезами. Воспаленные и стеклянные.
Душу насмерть выжигает, когда все это вижу.
– Рассказывай все… Все как есть, Марин… Я должен знать!
Она дергается. Совершает еще несколько попыток, чтобы оттолкнуть меня.
А потом… Словно бы разозлившись, принимается строчить, как из пулемета:
– Никита уходит в бар. Тебя цепляют какие-то парни. Ты бросаешься на них. Завязывается драка. Я поднимаюсь и иду на улицу. Хочу домой! Мне плохо! Мне очень плохо! Я сегодня умерла!
Ту дрожь, что пролетает по моему телу, не обозвать мурашками. Это ебаные мутанты. Они буквально сдирают с меня кожный покров.
Маринка смотрит на меня, но не видит. Она там. Она, мать вашу, вся там. Потому и тараторит в настоящем времени.
Но дальше…
– «Эй, красивая?» – с неестественной ухмылкой повторяет чужие интонации.
И тут я едва сдерживаю крик. Закусываю губы до крови и дышать прекращаю.
Чарушина ничего не замечает. Продолжает с выражениями декламировать:
– «Дорогу до моря не подскажешь, красивая?» – грубым голосом. – «Простите, я не местная», – своим родным и естественным. – «Обманываешь, красивая? Нехорошо», – хохочет. Не она. Будто демон какой-то в ней. Так она передает содержимое той ночи. И тут же выталкивает свою реакцию на происходящее – пронзительно визжит. Резко обрывает этот вопль ужаса. Докладывает, словно для отчета. – Треск ткани. Липкие прикосновение. Падаю. Больно. Жарко. И очень-очень страшно! Они не шутят! Дышать тяжело. Сейчас задохнусь! Легкие горят! Все тело горит! А мозг будто разбухает! Пульсирует, пульсирует, пульсирует… А они трогают, трогают, трогают! Вдавливают меня в грязь! Слезы градом из глаз летят! Захлебываюсь паникой! Помогите! Кто-нибудь!!! Помогите!!! Спасения нет… Уже не будет! Отключиться хочу! Не чувствовать! Не помнить! Господи!!! Белье разрывают! Касаются там… Не думать, не думать, не думать! На небо смотрю! Звезды расплываются! Боже, дай мне силы! Лететь хочу! Но я… Падаю, падаю, падаю… А потом крик… Не мой… Спасительный! Свобода! Никита… Безопасность… Слезы облегчения, благодарности и тошнотворной радости… Опустошение… Бездна…
Она прекращает говорить. Закрывая глаза, шумно переводит дыхание. И затихает.
Я же отступаю. Один шаг назад, второй, третий, четвертый… Разворачиваясь, обхватываю ладонями голову. В агонии боли постигаю, наконец, состояние полнейшего безумия. Не думая о последствиях, с диким ревом проношусь по самому хрупкому – стеклу и зеркалам. Маринкин крик не способен перекрыть, хотя вопит она в ту же секунду душераздирающе. Все эти звуки просто сливаются в бешеную какофонию пекла.