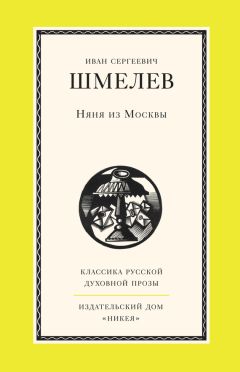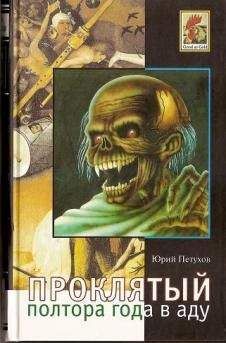— Ничего.
— Выглядишь, будто приведение увидела, — она недоверчиво щурится.
— Увидела, — я соглашаюсь и рвусь вперед.
Найти Эля и убраться отсюда к чертовой матери.
И… и почему я чувствую себя виноватой за то, что не позвонила Лаврову в третьем часу ночи и не попросила помощи?!
Это ж… это идиотизм!
— Дашка! — Женевьева тормозит, дергает и подбородком на угол барной стойки кивает.
Скрюченная фигура.
Черная толстовка с оскаленным черепом, что светится мертвенно-зеленым, привлекает внимание. И капюшон надвинут низко, скрывает лицо, но неважно.
Это Эль.
Его толстовка и его, сцепленные в замок, смуглые руки с длинными нервными пальцами, коими он привычным жестом барабанит по столешнице.
— Нейрохирург недобитый, — Женя цедит зло, покачивается в его сторону и тут же тормозит, мотая головой. — Нет, Даха, давай ты. Меня он вряд ли послушает.
Она криво улыбается…
И, вспоминая «биохимией о фейс», она права.
Самое болезненное и мучительное общение с прекрасным и нужным предметом Элечке обеспечила Женевьева. Более детально Эль биохимию не изучал и учебник не читал. И получил восемьсот страничным талмудом, что был формата А4, по ухмыляющейся физиономии он в общем-то заслуженно.
Элечка упражнялся в остроумии, доставал Женьку, допытывая умеет ли она целоваться.
«Ты смотри, Женек, если что, ничего сложного, — Эль, сидя на столе, веселился в меру сил, умственных способностей и испорченности, которая весной стала еще более испорченной, — язык в рот засовываешь и начинаешь пересчет. Маляры, премоляры, клыки, резцы… ну чего куксишься? Давай на практике покажу? Иди сюда!»
Он склонился, вытянув губы трубочкой, и с учебником биохимией к концу учебного года-таки познакомился.
Узнал, как он выглядит, и на зеленый цвет еще неделю смотреть спокойно не мог, зато о том, что биохимия — предмет тяжелый, Эльвин теперь говорит с полным трагическим правом. И сколотый верхний резец ощупывает с болезненной гримасой.
Пересчет зубов все же пришлось проводить, но в гордом одиночестве, без удовольствия и в кабинете стоматолога.
Поэтому да, уговаривать Эля лучше мне.
Без Женьки и без Лёньки, которого она придерживает, встает на носочки и кричит что-то в ухо, объясняя.
Я же пробираюсь к Эльвину, подтягиваю стул и забираюсь рядом. И очередной бокал с чёрт-те чем, протянутый любезным барменом, перехватываю:
— Ему хватит.
— Да бл… — Эль дергается, поворачивает голову, и осоловелые глаза моргают, округляются недоверчиво, и он осекается. — Даха?!
— И я тебя рада видеть, — я хмыкаю и стоящий у его руки пустой стакан подхватываю, принюхиваюсь. — Ром?
— Ну не напиток же истинных джентльменов, — он пренебрежительно кривится, пытается приподняться, но в сторону ведет знатно.
И не сверзиться с барного табурета его максимум.
— Эль, пойдем отсюда, — я перехватываю его руку, коей он в который раз собирается подозвать бармена.
Сколько он успел уже выпить сегодня?
— Куда пойдем, Даха? — голову в мою сторону он все же поворачивает.
Черные глаза впиваются почти ощутимо, смотрят.
И ответ: «дом» застревает в горле.
Не домой.
Там его отец, и про их отношения он никогда не говорил и не говорит, но… молчание тоже рассказывает о многом.
— Ко мне, — я предлагаю осторожно, — поехали ко мне домой.
Эльвин моргает, уставляется тупо на свои руки и пустой стакан в них. И головой качает, отрицательно, медленно, подбирает с трудом слова:
— Не, не хочу. В приличный дом места заказаны. Давай лучше тут посидим, а?
Его голова поднимается тоже медленно, и в глазах застывшая просьба:
— Ты посидишь со мной, Даха?
Посижу.
Минуту или две.
Чтобы уговорить, упросить.
Быстро, ибо компания справа от нас, в зоне столов, мне не нравится.
Они смотрят… слишком смотрят, и от их взглядов по хребту скользит мороз. И не замечать их внимание сложно.
- А ты мне тогда расскажешь, что случилось? — я спрашиваю, прошу и умоляю одновременно, оглядываюсь на напряженных Лёньку с Женей и едва заметно качаю головой.
Нет.
Я сама.
Смогу.
— Случилось, — Эль повторяет неожиданно четко, задумчиво, берет все же очередной поданный бокал и глаза на меня поднимает, — а, знаешь, Даха, вы все оказались правы. Всё, и даже не месяц. Я дурак. Только скажи мне почему у кого-то вся жизнь, как дорога, насранная единорогами, радужная и с замками воздушными, а кому-то одно сплошное настоящее говно? И ты с этой лопатой разгребаешь, разгребаешь, а небесная канцелярия тебе только подкидывает еще пару вагонов. Типа по принципу разгреб это, разгребешь и новое? Как, Дашка?!
— Не знаю, — я пожимаю плечами.
И уравнение в голове имеет больше двух неизвестных, но, ведя пальцем по краю его пустого стакана, уравнение я решаю.
— Горохова умерла?
— Умерла, — Эльвин в своей пламенной речи спотыкается и подтверждает, — умерла сегодня, утром, а мать вечером. Сегодня, но год назад. Вот такой пердюмоноколь, Даха. Выпей со мной…
Он протягивает свой стакан, и не взять я не могу.
Выпиваю залпом под его взглядом, которым после он обводит помещение и заключает:
— Меня тошнит от несправедливости этой жизни, от ее полной алогичности. Ты вот понимаешь законы нашей небесной канцелярии, по которым она определяет кому жить, а кому нет?
Нет.
Никогда не понимала почему здоровый новорожденный умирает, а вскрытие ничего не показывает, и почему безнадежный больной продолжает жить вопреки всему.
И вряд ли когда пойму, просто…
— Небеса не знают любимчиков, Эль…
— Не знают, — он соглашается с ожесточением, вытаскивает из куртки мятые купюры, что зло хлопаются на стойку, сползает с табурета.
Шатается.
И переглядывание трех бугаев из теплой компании справа я замечаю краем глаза.
Вот же черт.
Я беспомощно оглядываюсь на Лёньку, подставляю Элю плечо, чувствуя себя сестрой милосердия. И под восьмидесяти тремя килограммами живого веса — я помню с физиологии — меня саму шатает.
— Эль, ты садишься на диету, — я охаю, — а я еще думала, Вано у нас кабан.
— На хрен диету, — он ругается, и только от одного спиртового амбре можно уже опьянеть.
Где мой противогаз?
— Знаешь, Элечка, хочу тебя поздравить: с металкогольными психозами ты, судя по всему, познакомишься не на пятом курсе, а гораздо раньше, — я пыхчу и подоспевшему Лёньке место костыля и опоры уступаю.
Выпрямляюсь с трудом и Женьку, вьющуюся рядом, придерживаю, указываю на поднявшихся бугаев:
— Смотри, Софка была, кажется, права. Надо валить как можно быстрее.
— Я Лёне уже сказала, — она торопливо соглашается и выдыхает яростно. — Кретин, что б его…
— Утром скажешь, можешь даже лекцию забахать о вреде алкоголя, — я утягиваю ее вслед за парнями.
— Таким придуркам, как он, это не поможет, — Женька шипит и оглядывается нервно, — Дашка, они за нами идут. Людей, как корабль воду, разрезают.
— Какое сравнение, — я иронизирую не менее нервно.
И Лёнька, как положено любителям ЗОЖ, в спортзал ходил, тягал умеренные тяжести, но пьяное тело тащить ему сложно.
Эль сам мешает, замедляет. Тормозят вечно танцующие и веселые, что норовят утянуть в самую толпу, закружить.
— Мы не успеем, — мы с Женькой выдыхаем в унисон.
— Успеем, — Лёнька цедит через плечо непривычно жестко, утирает пот со лба, — нам надо протянуть пятнадцать минут, потом приедут отцовские архаровцы. Я позвонил.
— Эль, помоги нам, — Женевьева, в который раз оглянувшись, решительно отвешивает ему пощечину, — соберись, собака ты этакая!
— Зачем? — он глядит равнодушно.
И добавить оплеуху для симметрии хочется, но вибрация в кармане отвлекает.
Кто звонит в три ночи?
— Затем, чтобы тебе вписать по полной хотят, — Женька, тянет его за вторую руку, помогает Лёньке, ибо толпа уменьшилась и втроем в ряд стало возможно.
— Да? — я же выуживаю телефон, отвечаю, не глядя, и между людьми скольжу следом ужом.