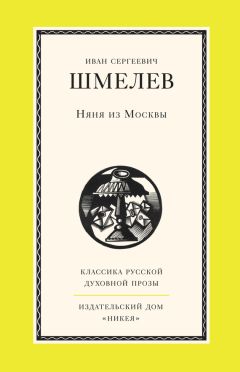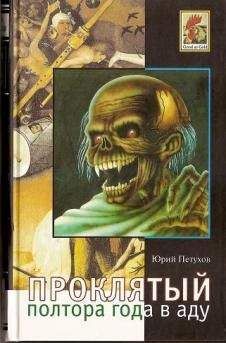— Вить, она поедет с ним, — Лёнька, бросив острый взгляд и на миг усмехнувшись, слова Лаврова подтверждает, распоряжается холодно и высокомерно, — и остальные двое тоже.
— Но Аркадий Петрович…
Начальник безопасности хмурится еще больше.
Мрачнеет.
— К Аркадию Петровичу поеду только я, — Леонид Аркадьевич, достойный сын своего отца, встает неловко и приглушенный стон сквозь стиснутые зубы слышу лишь я.
Он же хромая подходит к Виктору, хлопает его по плечу и предлагает задушевно:
— Поехали домой, Вить.
Глава 32
Лёнька уезжает.
Скрываются за поворотом, полыхая алыми фарами, два близнецовых внедорожника, и на пустынной стоянке я остаюсь наедине с Лавровым.
Он стоит за спиной, и тяжелый взгляд слишком явственно ощущается затылком, прожигает насквозь и повернуться невозможно.
Заговорить.
Сказать, спросить, извиниться, сделать хоть что-то.
Напряжение, безмерно материальное, сковывает, связывает по рукам и ногам, и звук хлопающей двери машины бьет по нервам.
— Ребят, я, конечно, понимаю, что встречать рассвет вдвоем очешуенно, но может сначала поможете сирым и убогим, — знакомый голос знакомо весело раздается позади.
И в Зажигалке Кирилл Александрович, оказывается, что-то забыл в компании Степана Германовича. И к другу Лаврова, старательно не глядя на самого Лаврова, повернуться гораздо легче.
Проще поздороваться.
— Утро доброе, отличница, — он широко улыбается, и пачкой сигарет, выуживая одну, о ладонь стучит, — или еще ночь?
Вопрошает он у Лаврова, но ответа не дожидается, и философски пожимает плечам, хлопает своего друга и предлагает серьезно:
— Кирюха, а давай ты свою отличницу убьешь позже? Мне парень не нравится, осмотреть б его по-хорошему. Знатно отделали, — Степан Германович морщится.
И мир возвращается в движение, заставляет опомниться.
Устыдиться.
— К вам или нам? — Кирилл Александрович интересуется сухо.
Не смотрит больше на меня.
— К нам ближе, — Степан Германович хмыкает, выдыхает облако дыма и на миг довольно жмурится, подставляя лицо едва поднявшемуся над горизонтом солнцу. — Нет, какая все же красота, а! Тишина, спокойствие, птички поют.
— Ты соловьем разливаешься… — Лавров недовольно скрипит.
И к припаркованной под липами машине устремляется первым.
— Разливаюсь, друг мой, — Степан Германович покорно соглашается, и от задней двери меня мимоходом оттесняет, оглядывается со странным выражением лица на вывеску клуба. — Такое заведение посетили, а ты ворчал, что Черный лис места поприличней выбрать не мог. Вот где, если бы не тут, ты б еще так развлекся?
— Стива… — Кирилл Александрович тормозит, застывает, так и не сев, и на Стиву смотрит поверх крыши.
Предупреждает, и их молчаливый короткий диалог заставляет перевести взгляд с одного на другого, вглядеться в каменное лицо Лаврова, в заигравшие на скулах желваки, в холодные синие глаза, что неожиданно в упор смотрят на меня.
— В машину садись, Дарья Владимировна.
Он приказывает, и я моргаю, опоминаясь, открываю послушно дверцу.
Сажусь рядом, и назад оглядываюсь, встречаюсь взглядом с бледной и взволнованной Женькой, что пытается улыбнуться подрагивающими губами:
— Ты пропустила, как новообретенных друзей Элечки галантно предложили подвезти в неизвестное направление вежливые охранники твоего Лёньчика.
— Как появившийся из ниоткуда администратор ужасался произошедшему, вы тоже пропустили, — Стива добавляет задумчиво, проверяет деловито пульс пристроенному посередине Элю, и выдает кривоватую улыбку. — Кажется, дни этого милого заведения сочтены.
— Давно пора, притон, а не клуб, — Кирилл Александрович цедит сквозь зубы, бросает взгляд в зеркало заднего вида. — Как он?
— Жить будет, но мучительно больно и, глядя на тебя, подозреваю, что недолго, — Степан Германович заверяет с оптимизмом.
Лавров не возражает, и мы с Женькой тревожно переглядываемся.
И голос несмело подает она:
— Кирилл Александрович, Эльвин ни в чем не виноват…
— И сюда он нас не звал, мы поехали сами, — я шепчу едва слышно, смотрю в окно.
И инстинкта самосохранения не имею, ибо, судя по искрометному взгляду в мою сторону, мне следует рот вообще не открывать.
Молчать, раскаиваться и придумывать оправдательную, а заодно, и предсмертную речь.
— Нет, Кирюха, ты посмотри какие они у тебя, а? — Степан Германович восторгается, одобрительно прищёлкивает языком, и звучит это его одобрение совсем неодобрительно. — Сами приехали, сами… вляпались. Молодцы!
— Отличники, Стива, — Лавров хмыкает.
— Да ну, — Стива удивляется наигранно, указывает на Эля, — и этот тоже?!
— А этот, Стива, — Кирилл Александрович отвечает задушевно, с насмешкой, за которой ярость скользит чрезмерно отчетливо, — самый главный отличник. Отличается и отличается. С Дарьей Владимировной на пару. Да, Дарья Владимировна?
Вопрос звучит с издевкой, и голову в плечи я невольно втягиваю.
И желтому зданию второй городской радуюсь, как никогда в жизни, выскальзываю из машины первой.
Нажимаю под руководством Степана Германовича на звонок у железных дверей.
— Лизавета Семеновна, а мы к вам! — он обольстительно улыбается сухопарой старушке, что отодвигает с лязгом засов, распахивает перед нами двери, и на нас взирает с удивлением.
Пятится:
— Степан Германович?
— Вы уж нас простите, что мы в столь поздний час, — он пыхтит.
И Эля, повисшего безмолвным и полубессознательным кулем между ним и Кириллом Александровичем, в тамбур приемника они затаскивают.
— У нас внеплановые учения в раненных бойцов, — Стива оглядывается по сторонам, перепоручает Эля Кириллу Александровичу. — Народу много?
— Нет, два под наблюдением, а Илья Петрович на втором этаже, — Лизавета Семеновна поджимает губы, кутается в накинутый поверх костюма платок, и за нами следом семенит.
Мы же идем за Степаном Германовичем, что уверенно шагает вперед, преображается с каждым шагом и в кабинеты по пути заглядывает.
— Лизавета Семеновна, Флюра же сегодня в ночь? Где она?
Он даже не спрашивает — требует.
Сосредоточенно.
И узнать в нем человека, что еще недавно говорил: «очешуенно», веселился и зло иронизировал вместе с Лавровым, нельзя.
— Так сегодня, — Лизавет Семеновна охотно подтверждает, и недоумение в ее голосе противостоит любопытству, — на третьем. Позвать?
— Да, — Степан Германович коротко соглашается, рубит слова, — мы в пятой смотровой, пусть спустится как можно скорей.
— Конечно-конечно, — она суетится, кивает выбеленными сединой кудряшками.
А Степан Германович распахивает белоснежную дверь с зеленой табличкой, пропускает Лаврова с Эльвином и… нам с Женькой путь преграждает.
— Вы ждете здесь, — он смотрит строго, холодно в духе Лаврова, — и, отличница, постарайтесь ни во что не вляпаться.
Не вляпаться в первую очередь следует в дверь, которая оказывается захлопнутой около носа. И назад я покачиваюсь невольно, оглядываюсь в поисках поддержки и ответов на Женьку.
— И как это называется?
— Дискриминация, — она недовольно буркает, сверлит дверь почти обиженным взглядом. — Вот чего они? Можно подумать мы б увидели что-то новое!
— Не увидели б, — я согласно хмыкаю. — Элечку мы не только видели, но и облапать кучу раз уже успели.
— Угу, — Женя фыркает и к единственной кушетки устремляет сначала свой взор, а потом и ноги, — ты главное Кириллу Александровичу именно так и передай. Он оценит. И Эльвина в землю точно вкатает.
— Не вкатает, — я возражаю, но без особой уверенности.
Устраиваюсь рядом, приваливаясь затылком к стене, и ноги блаженно вытягиваю.
— Надеюсь, это моя привилегия, — Женька же ворчит, поворачивает голову, смотрит.
И, приоткрывая глаза, которые настойчиво и самостоятельно слипаются, я недовольно вопрошаю:
— Что?