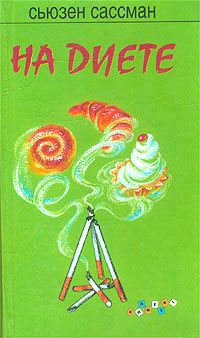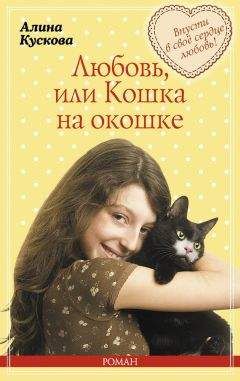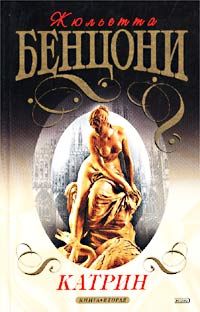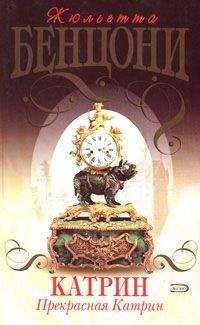— Но это твоя жизнь, тебе и решать! Надо ей сказать, чем ты на самом деле хочешь заниматься.
— Музыкой… Но пока не знаю, на каком инструменте. На фортепьяно. Пианист — это профессия?
— Ну, если ты талантлив и вкалываешь как сумасшедший…
— Мой препод говорит, что у меня абсолютный слух, что мне надо продолжать занятия, но… Не знаю, Гортензия… Не знаю. Я только восемь месяцев занимаюсь музыкой. Страшно в моем возрасте решать, что будешь делать всю жизнь…
Бедняга наконец нашел телефон; теперь, по-прежнему скрючившись на тротуаре, он старался поставить на место отскочившую батарею, но зажатый под мышкой кейс отнюдь не облегчал ему задачу.
— Иди спать, старина! — вздохнула Гортензия. — Сегодня не твой день!
— Спасибо, одолжила! — возмутился Гэри. — Можно подумать, сама ты мигом находишь ответы на все вопросы!
— Да я не тебе! Я вон тому типу на улице, который упал. Ты ничего не видел?
— Я думал, ты меня слушаешь! Нет, ты все-таки невозможный человек! Тебе наплевать на людей!
— Да нет… Просто я начала на него смотреть, когда ты еще не говорил. Больше не буду, честное слово…
Вот напоследок только гляну… Мужчина на тротуаре выпрямился и что-то искал на земле. Нет, не может быть, он же не хочет подобрать свой пончик? Она даже привстала, чтобы лучше видеть. Мужчина осмотрел тротуар, увидел валяющийся у автобусной остановки пончик, поднял его, отряхнул и поднес ко рту.
— Господи, свинья какая!
— Ну спасибо, Гортензия, — бросил Гэри, вставая. — Ты меня достала!
И вышел из кафе, хлопнув дверью.
— Гэри! — закричала Гортензия. — Вернись!
Она не допила капуччино и не хотела оставлять его на столе. Это был ее обед.
Она выскочила на улицу, высматривая, куда ушел Гэри. Увидела, как его высокая, плечистая фигура стремительно и яростно свернула на Окфорд-стрит. Догнала его и подхватила под руку.
— Гэри! Please![59] Я вовсе не тебя свиньей назвала!
Он не ответил. Широким шагом мчался вперед, так что она за ним едва поспевала.
— Раз ты выше меня на восемнадцать сантиметров, значит, твои шаги на восемнадцать процентов длиннее моих. Если будешь двигаться в том же темпе, я быстро отстану, и мы не сможем поговорить…
— А кто сказал, что я хочу с тобой говорить? — буркнул он.
— Ты. Только что.
Он молча несся вперед, волоча ее за собой.
— Ты хочешь, чтобы я свалилась? — спросила она, запыхавшись.
— Отвали, достала.
— Это не аргумент! Права твоя бабушка, пора браться за учебу, у тебя словарный запас истощился…
— Задолбала уже!
— Еще того лучше!
Они шли и шли. «What a glorious day! What a glorious day!» — напевала про себя Гортензия. Утром она получила лучшую отметку в классе по стилю, а для вечерних занятий нарисовала элегантную бутоньерку. Другие ученики ее скоро возненавидят. У нее было врожденное чувство стиля, но она упорно работала над техникой; ей запала в голову фраза, вычитанная в журнале: «Стилист, пренебрегающий техникой, — всего лишь иллюстратор».
— Даю тебе время успокоиться до следующего перекрестка. Там наши пути расходятся. У меня каждая минута на счету.
Он остановился так резко, что она налетела на него.
— Я хочу заниматься музыкой, это единственное, в чем я уверен. Я не курю, не пью, не ширяюсь, не шатаюсь по магазинам за шмотками, не созерцаю свой пуп, уповая на Бога, мне не нужна роскошь, но я хочу заниматься музыкой…
— Ну вот так ей и скажи.
Он пожал плечами и гневно взглянул на нее с высоты своего немалого роста. Его взгляд походил на грозовую тучу.
— Я успею достать громоотвод или ты меня сразу испепелишь? — спросила она.
— Как будто все так просто, — сказал он, поднимая глаза к небу.
— А мама твоя что говорит?
— Делай, говорит, что хочешь, время пока есть…
— И она права!
Он присел на парапет, поднял ворот плаща, словно спрятался в него. Вид у него был трогательный и растерянный, черные кудри упали на глаза. Она села рядом.
— Слушай, Гэри, тебе крупно повезло — ты можешь делать все что угодно. У тебя нет проблем с деньгами. Кто, как не ты, может попытаться делать в жизни то, что действительно интересно?
— Она не поймет.
— С каких это пор ты позволяешь, чтобы кто-то другой решал, как тебе жить?
— Ты ее не знаешь. Она так просто не отступится. Начнет давить на маму, та начнет винить себя за то, что не занимается мной «всерьез», — он нарисовал в воздухе кавычки, — и вмешается.
— Попроси у нее отсрочки на год…
— Но одного года мало! Чтобы стать музыкантом, нужно время… Я же не на кулинарные курсы хожу!
— Запишись в музыкальную школу. Хорошую, солидную музыкальную школу…
— Она об этом и слышать не захочет.
— Не обращай внимания!
— Это легче сказать, чем сделать!
— Странно, до сих пор мне и в голову не приходило, что ты можешь быть лузером!
— Ха-ха-ха! Как смешно.
Он склонил голову, как бы говоря: ну давай, вперед, добивай лежачего, раздави меня презрением, ты в этом деле мастерица.
— Ты даже попробовать не хочешь. Раз это твое призвание, докажи, что все серьезно, и она тебе поверит. А так выходит, ты сдался, не успев выйти на ринг!
Они молча переглянулись.
— А ты всегда так и делаешь? — спросил он, не сводя с нее глаз, словно ее ответ мог изменить всю его жизнь.
— Да.
— И получается?
У нее даже мурашки побежали по спине — настолько серьезным был его взгляд.
— Всегда. Но надо вкалывать. Я хотела диплом с отличием — я его получила, хотела поехать в Лондон — поехала, хотела поступить в эту школу — меня приняли, и теперь я стану известным стилистом, а может, знаменитым модельером. Никто не заставит меня свернуть с пути ни на сантиметр, потому что я так решила. Я поставила себе цель, это довольно просто, ты сам знаешь. Когда ты всерьез что-то решаешь, это всегда удается. Если сам в чем-то уверен, то можешь убедить кого угодно. Даже королеву.
— А еще какие-то цели ты себе поставила? — спросил он, чувствуя, что нужно ловить момент, что она временно ослабила защиту.
— Да, — без колебаний ответила она, твердо зная, на что он намекает, но не желая отвечать.
Они по-прежнему смотрели друг другу в глаза.
— И какие же?
— Not your business![60]
— Нет уж, скажи…
Она покачала головой.
— Скажу, когда добьюсь!
— А ты, конечно, добьешься.
— Конечно…
Он загадочно улыбнулся, словно уступая — да, возможно, она права, но судить об этом рано. Еще не время. Остались кое-какие формальности. И на миг оба замерли в торжественном молчании, оказались в доселе неведомом мире — мире самозабвения. Их души впитывали друг друга, они ощущали мягкое, бархатистое касание сердец и могли без слов сказать, что каждый из них думал. Они все сказали глазами. Так, словно ничего и не было или пока не должно было быть… В этом бархатном мире сердец они станцевали танго, их души нежно поцеловали друг друга в губы, а потом они выпали обратно, на улицу, где гудели машины, а прохожие поднимали с земли недоеденные пончики.