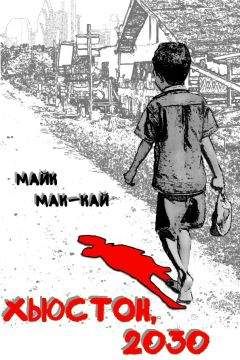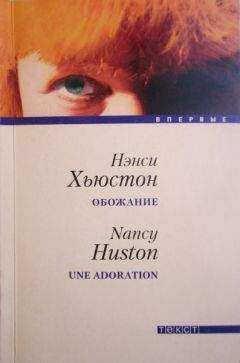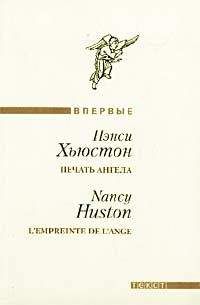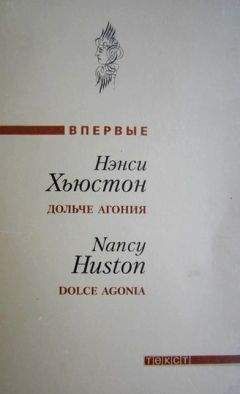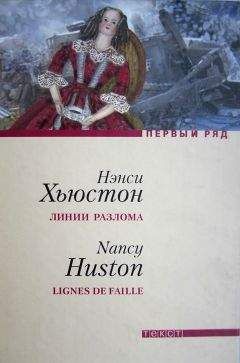Птица вернулась вовремя, без опозданий. Син встречал ее в аэропорту, и в интернате они появились вместе. Я видел в окно, как они шли по дорожке, и Синклер нес ее сумку. На следующий день в классе она встретилась со мной глазами, вспыхнула и отвернулась. А на перемене Син куда-то сразу увел ее. Он ничего не забыл и не простил. Менялся в лице, стоило мне оказаться в поле его зрения, смотрел тяжелым, ненавидящим взглядом. Наверное, если бы в один прекрасный день я бы упал с крыши, и желательно очень высокой крыши, чтоб уж наверняка, он счел бы этот день поистине прекрасным. Правда он сдержал слово, которое дал Птице, и больше не было никаких «судов Линча». Это далось ему непросто. Порой, мне казалось, что он не выдержит, сорвется. И если бы не ее слова, ее клятва, данная Марку, я бы сделал все, чтобы это случилось. И чтобы она тоже могла нарушить свое слово. И чтобы прекратилась эта мучительная пытка. Мы больше не общались. Нет, она не избегала меня специально. Но, если я подходил, становилась такой напряженной, молчаливой и замкнутой, словно боялась, что я ляпну или сделаю что-то такое, с чем она не сможет справиться. Она улыбалась мне иногда, но не прежней, живой и радостной улыбкой, а так как улыбаются, глядя на фото старого, но давно потерянного друга.
И если это можно было назвать жизнью, то я жил дальше. Иногда мне казалось, что Птица тоже скучала, я ловил на себе ее осторожные, полные затаенной грусти взгляды. И каждый такой взгляд рвал мне душу в клочья. Меня тогда накрывало чувство, словно то, что было между нами, никуда не делось, что оно вот рядом, только руку протяни. Но в памяти всплывал ее голос «я всегда буду рядом, Марк», и на мир вновь опускалась бесконечная и беззвездная ночь.
Глава 34 Баська
И если бы не занятия в студии и Карандаш, я бы, наверное, просто сошел с ума и что-нибудь натворил. Старый, добрый Карандаш. Возможно, он был не таким уж и старым, как мне казалось в семнадцать лет. Его густая шевелюра, жесткая щетка усов и даже кустистые брови были уже изрядно тронуты сединой, а вокруг глаз, когда он улыбался или задумчиво щурился, разбегались сеткой мелкие морщинки. Он подошел ко мне на первом, после праздников занятии, пристально всмотрелся в лицо, задержав надолго взгляд на моих немного подживших губах, заштопанном подбородке, ссадинах, еще не вполне сошедших синяках, и, наконец, сказал своим обычным мягким голосом:
— Задержись, пожалуйста, после занятий.
И отошел, странно ссутулившись, словно сгорбившись. И все то время, что длился урок, просидел за своим столом в глубокой задумчивости. Рассеяно отвечал, когда кто-нибудь из наших о чем-либо его спрашивал. Он выглядел усталым и постаревшим. Когда занятие закончилось и все разошлись, он снова подошел ко мне и спросил:
— Что случилось? У тебя проблемы? Я могу чем-то помочь?
— Нет. Не надо… не нужно ничего.
Я напрягся и отвернулся, чтобы он не смотрел так пристально мне в лицо.
— Кто это сделал? Ты можешь мне сказать?
— Никто… Не знаю, я не видел, было темно.
Он снова попытался заглянуть мне в глаза:
— Почему ты сразу мне ничего не сказал? Я думал, ты мне доверяешь…
Мне стало так неудобно, я даже пожалел, что пришел. Я соврал Карандашу. Когда это случилось, позвонил ему из больницы и сказал, что простыл и не смогу пока заниматься. Он забеспокоился, спросил, что у меня с голосом. Я ответил: ничего, горло болит. Мне просто трудно было разговаривать, губы от этого кровоточили и болели. Он хотел прийти, но я отговорился тем, что лежу в изоляторе, и ко мне не пускают. А так ничего серьезного и скоро я буду в норме.
До сих пор между нами не было непонимания, и я знал, что могу на него положиться. Он лишь хотел, чтобы я доверял ему. И, как бы там ни было, я ценил это. Но, сказать ему правду не мог. Да и что тут было говорить? Что сам нарвался? Что разбитые иллюзии ранят больнее кастета? Что ни о чем не жалею и что снова повторил бы тот головокружительный вечер с Птицей? Даже если бы снова пришлось платить за него, пробуя на вкус свою кровь. Не мог я ничего сказать Карандашу, горло пережимало, и не шли слова, хоть тресни. Да и зачем было взваливать на него лишние тревоги. Карандаш расстроено молчал, и я раздраженно добавил резче, чем следовало:
— Со мной все в порядке. В полном порядке.
Я бы жизнь за него отдал, после всего, что он для меня сделал, как учитель и как человек. Но сейчас мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. Даже от искреннего участия становилось только хуже, как неизлечимо больному от сочувственных взглядов окружающих его здоровых людей.
— Извини, что лезу не в свое дело, я просто волнуюсь за тебя — потерянно сказал он. Выражение лица у него стало совсем беспомощным и виноватым. Мне тут же стало стыдно. Карандаш меньше, чем кто-либо заслуживал, чтобы я срывался на нем. Забывшись, прикусил в досаде губу, и почувствовал, как лопнула тонкая молодая кожица и ранка так некстати закровоточила. Быстро стер кровь рукой, чтобы Карандаш не заметил, и пробормотал:
— Простите, я не хотел грубить.
Он глубоко вздохнул, достал из карман своего пиджака чистый носовой платок, протянул его мне. Потом сказал немного надтреснутым голосом:
— Ты напрасно скрываешь, кто это сделал. Это ведь кто-то из ваших? Верно? А если они снова, если это повторится… Вот скажи, что мне теперь делать с тобой? Как быть? Может, ты все-таки поживешь у меня? Так будет спокойней. Я поговорю с вашим директором. Мне кажется, он не будет возражать. Ты нисколько не стеснишь меня. Я буду только рад.
— Нет, спасибо. Не нужно. Нет, в самом деле, не нужно… Все нормально уже. Ничего такого не будет больше. Ничего …
Сказал и внезапно отчетливо, с пронзительной остротой осознал, что действительно не будет больше ничего у нас с Птицей. Ни сейчас, ни потом. И так стало от этого плохо, хоть плачь.
— Я пойду, — сказал я Карандашу, чтобы своим унылым видом не терзать ему душу. Захотелось побыть одному, чтобы наедине без посторонних глаз немного пережить эту пронзившую меня мысль. Как-то примириться с ней, чтобы она перестала так нестерпимо саднить внутри. Он грустно кивнул:
— Если надумаешь, имей в виду, предложение остается в силе, в любое время.
Он и раньше не раз предлагал мне это, но я неизменно отказывался. Не потому, что не хотел. Очень хотел, но не мог. Жена умерла у Карандаша несколько лет назад, дети выросли и разлетелись по другим городам, изредка наезжая к нему большой и шумной толпой. В такие дни Карандаш расцветал, глаза его начинали блестеть, и он часто раскатисто смеялся, рассказывая какие-нибудь забавные истории из жизни своих детей и внуков. Он их очень любил. И они его тоже. И поэтому старались оградить от возможных неприятностей и неосторожных поступков. Карандаш однажды познакомил меня со старшим сыном в один из его приездов. Тот довольно интересно рассказывал о своей работе юриста в каком-то крупном банке. А его пятилетняя дочка, симпатичная голубоглазая малышка с золотыми кудряшками негустых легких волос, в ярко-розовой кофточке, похожая на цветочный бутон, в это время пыталась поведать дедушке, как понравилось Лялечке, ее кукле, ехать в машине. Этот нежный лепет занимал Карандаша даже больше, чем будни банковских клерков. Но он умудрялся внимательно слушать их обоих, ласково поглаживая внучку по голове и кивая сыну, который был очень похож на него, молодая копия. Только взгляд был более жестким, оценивающим, и губы часто кривились в едкой пренебрежительной усмешке.
Карандаш звал сына Басик. Это было, как я понял, такое домашнее, детское прозвище. Басику это страшно не нравилось. Он недовольно морщился и тянул: «Перестань, отец! Когда уж ты его забудешь!» Наверное, привык чувствовать себя солидным важным человеком, которого все называют только по имени-отчеству, так что и дома, с отцом, не мог расслабиться. Интересно, подумал я тогда, а у меня было какое-нибудь домашнее имя или прозвище. Такое же ласковое и смешное, детское, от которого также веяло бы теплом и любовью. Может, даже и было. Но я ничего такого не помнил, а узнать было не у кого.