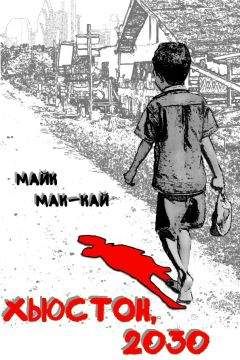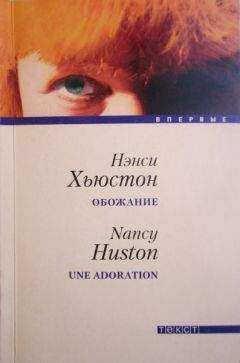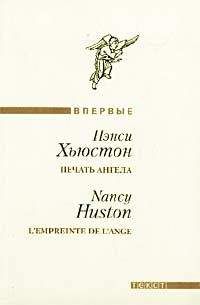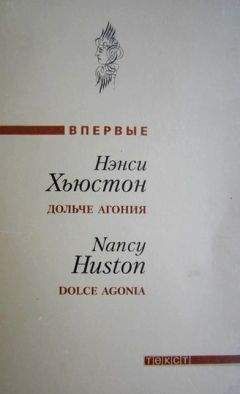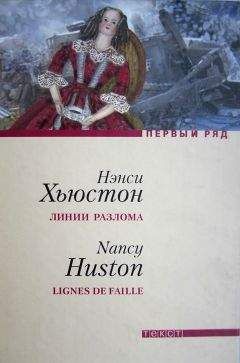Я долго сидел у него, пока не пришло время процедур, и в палату не вошла, неся на большом подносе шприцы и лекарства, пожилая медсестра. Я стал прощаться и Карандаш, пожав мне руку, сказал, погрустнев:
— Ну, забегай, когда время будет. Хотя, что тут веселого на стариков смотреть.
Но я его заверил, что непременно еще приду, скорее всего, даже завтра. Спросил, что ему принести и, он внезапно сказал:
— Да, если не трудно, есть у меня к тебе одна просьба. Ты не мог бы заглянуть ко мне домой, кое-что прихватить. Ключи я тебе дам, соседи тебя знают. Если, конечно, это для тебя удобно будет.
Конечно, без проблем, ответил я. Он сказал, что ему нужно, отдал мне ключи, и я ушел. На душе немного полегчало от того, что Карандаш на меня не сердился и по-прежнему доверял. Я стал приходить к нему так часто, как только мог. Иногда забегал всего на несколько минут, по дороге в студию или обратно, чтобы узнать, как дела. Иногда сидел у Карандаша по часу и больше. Обычно мы просто разговаривали вполголоса, чтобы не мешать другим. Время от времени я приносил ему свои рисунки, он сам попросил меня об этом. И мы обсуждали их. А порой гуляли по пустому больничному коридору, где по углам пряталась в тени гулкая тишина, было очень спокойно, но довольно прохладно. Я волновался, чтобы Карандаш не простыл, а он только смеялся. Говорил, что я как его матушка, не о том беспокоюсь, но ему приятно, что я такой внимательный. Мне тоже было приятно, что Карандаш стал больше походить на себя прежнего, и уже не был таким землисто-бледным и погасшим.
Однажды, поднявшись к нему на этаж, я увидел в коридорчике, перед дверями отделения, стоявшую у стены каталку — тележку, на которой перевозили больных. На ней лежало что-то длинное, по форме напоминавшее человека, с головы до ног укрытого простыней. Я остановился, потому что дыхание внезапно пресеклось, и желудок скрутил острый болезненный спазм. Только не это, подумал со страхом. Я не мог потерять еще и Карандаша. Двинувшись на ватных ногах дальше, разглядел, что на каталке, накрытые простынкой, громоздились стопки чистого постельного белья. Я, конечно, вздохнул с облегчением, но с тех, пор, как только поднимался на этаж к Карандашу и до самых дверей палаты, где уже мог его видеть, меня преследовал этот страх, страх внезапной потери, заставлявший холодеть пальцы на руках и тревожно биться сердце.
Соседи по палате быстро привыкли к моим посещениям и принимали как родного. Начинали рассказывать, что «твой-то, сегодня молодец, совсем бодрячком». Карандаш добродушно усмехался в усы. Он действительно шел на поправку, посвежел, и в глазах снова появился блеск и интерес к жизни. Впрочем, родные тоже его навещали. Приехали поочередно все дети и внуки. Так что Карандаш не скучал. Как-то раз меня задержал в коридоре его лечащий врач и спросил, кем я ему прихожусь. Я сказал, что Карандаш мой учитель. Доктор посмотрел недоверчиво:
— Так сказали, к нему почти каждый день сын приходит.
Я пожал плечами, а он разочаровано добавил:
— Поговорить хотел… Ну ладно…
— А что? — встревожился я. — Что-то не так? У него что-то серьезное? Может я тоже чем-то смогу помочь?
— Не думаю. — Доктор нахмурился. — Дело вот в чем: мы его, конечно, подлечили, но после выписки нужно, чтобы он какое-то время находился под наблюдением, чтобы кто-то с ним рядом был. Смотрел, чтобы вовремя лекарства принимал, поменьше волновался, больше отдыхал, чтобы помочь при необходимости, если вдруг хуже станет. Я спрашивал, он один живет. Ну, если родных нет, то даже не знаю…
— У него есть родные, — сказал я, — дети. Только они не здесь живут, в других городах.
— Хорошо, — доктор что-то черкнул в карточке Карандаша, которую все это время держал в руках. — Тогда, они решат вопрос.
Обязательно, подумал я, они же одна семья, и немного успокоился. А когда на следующий день пришел к Карандашу, у него уже сидел посетитель. Его старший сын, Басик. Мы не встречались с ним после того разговора. Я вообще с тех пор старался не бывать у Карандаша, когда там гостили свои, родные. Хотя Карандаш, неизменно приглашал и меня, упорно хотел познакомить и подружить с ними. Но мне хватило одного раза. Я запнулся в дверях, хотел уйти, но Басик неожиданно приветливо, хоть и несколько натянуто, заулыбался и сказал:
— Заходи, заходи, не стесняйся…
Я зашел, чувствуя страшную неловкость, и встал, не зная куда приткнуться. Карандаш приглашающе похлопал по своей кровати, и я примостился на краешке. Спросил, как он себя чувствует. Он ответил, что очень хорошо, просто прекрасно, и радостно сообщил, что через день-другой его должны выписать, и он ждет не дождется, когда окажется дома. Я кивнул и едва удержался, чтобы не посмотреть на его сына, размышляя про себя, как они решили проблему, о которой говорил врач. Я не стал в этот раз долго задерживаться. В присутствии Басика разговор не клеился. Я, как не пытался, не мог выжать из себя ничего кроме каких-то пустых фраз и односложных предложений. И, промучившись так минут пятнадцать, стал прощаться, рассчитывая в другой раз зайти более удачно.
К моей большой досаде Басик тоже поднялся и, выйдя следом, окликнул меня. Я напрягся, ожидая услышать, что на этот раз сделал не так. Слишком часто навещал «старика»? Слишком долго сидел у него? Может чего-нибудь в квартире не досчитались, пока у меня ключи были? Но он, внезапно смутившись, сказал, побрякивая в кармане мелочью:
— Ну, в общем, такое дело… Ты меня извини за тот разговор. Помнишь?
Я продолжал молча смотреть на него, не понимая, к чему он клонит. В отличие от «того разговора» он никак не мог приступить к делу и еще какое-то время повторял бессвязные извинительные фразы. Пока я не сказал, начиная терять терпение, что не в обиде и давно забыл об этом «маленьком недоразумении». Тогда он, явно повеселев, стал выражаться более конкретно. И до меня, наконец, дошло, что они, то есть его родные, хотели попросить меня присмотреть немного за больным. Мне ведь, наверное, «небезразлично состояние старика, и я был бы рад немного пожить в домашней обстановке». Так он выразился, его сын. А то у них «работа, семьи. А переезжать к кому-то из них старик ни в какую не хочет, такой упрямый. Да и врач не рекомендовал. Но и они не могут. Нельзя же все вот так бросить. А отпуска уже прошли, и как все некстати случилось. А я все равно один и ничем не связан». Тем более, неохотно сказал Басик, едва уловимо поморщившись, и старик ко мне привязан.
Конечно, я мог отказаться. Сделать такой жест: мол, у меня тоже есть достоинство, и выпутывайтесь, как хотите, ваши проблемы. Но я не мог позволить себе гордость, только не в этом случае, только не с Карандашом. Когда я согласился, Басик, заметно повеселев, видимо на радостях, что ему не пришлось сильно унижаться перед каким-то безродным проходимцем и долго уламывать, небрежно добавил, что они могут и деньжат мне немного подкинуть. Я наотрез отказался, возмущенно покраснев от одной только мысли, что они хотят заплатить мне за помощь Карандашу. Это тоже добавило ему хорошего настроения. Так, что он даже, вновь обретя всю свою вальяжность, снисходительно похлопал меня по плечу в знак дружеского расположения и произнес:
— Ну, вот и славно!
Меня покоробило, что он употребил эту присказку, которую я привык слышать из уст Карандаша. Стало так неприятно, что я был рад поскорее распрощаться и уйти.
Глава 36 Я переезжаю
В общем, через несколько дней я перебрался к Карандашу. Мы вместе из больницы на такси приехали к нему домой. И пока он с удовольствием вновь обживал после долгого отсутствия свое жилище, я поехал за вещами. Йойо встретил весть о моем переезде без энтузиазма, мне показалось, что даже расстроился. Во всяком случае, отложив гитару, он молча смотрел, как я мечусь по комнате, потом спросил:
— Но ты ведь не насовсем, Бемби?
— Нет, — сказал я. — Конечно, нет.
— Хорошо, — произнес он, — удачи, чувак.