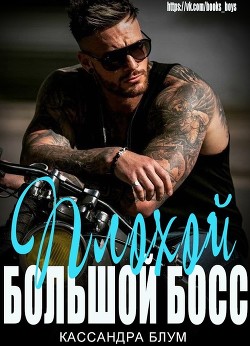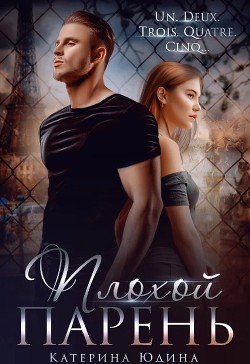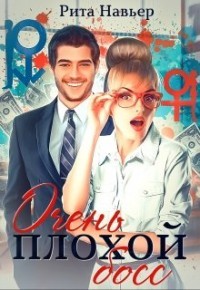Господи, я напоминаю себе… Идиотку. Ту, которая кайфует от того, как мужчина уплетает её суп. Блин, как… Как никогда вот меня так не волновали такие мелочи. А сейчас — каждая ложка, отправленная в рот Верещагину, идет за личное достижение.
— Блин, это суп такой вкусный, или я из твоих рук и мышьяка приму чашечку, — Антон смеется, а мне хочется только урчать от удовольствия.
— Обычный суп. Томатный…
Расстояние сокращается осторожно, но довольно быстрыми скачками. Мы обмениваемся такими простыми репликами, а напоминают они по сути — осторожные первые ходы фигур по шахматной доске. Во что играем? В поддавки? Кто кому больше подыграет?
Я чертовски долго даже не пробовала в “нормальные отношения”, потому что, ну где я, и где эта чертова унылая норма?
Ложка звякает об дно тарелки. Упс. Уже? А я втянулась!
— Добавку будешь?
Антон качает головой.
От греха подальше уношу столик для завтрака обратно на кухню, а вернувшись, падаю на кровать поверх одеяла. Между мной и Антоном есть расстояние — ровно на протянутую руку, сойдет за личное пространство.
— Я и не думал, что ты бываешь такая… — тихо замечает Антон.
— Скучная? — уточняю я, склоняя голову набок. — Или как ты там говорил? Унылая?
— Уютная, — проговаривает Антон, скептической гримасой договаривая “и злопамятная”. Ну, тут, что есть то есть, да…
Я пожимаю плечами.
— Умеешь драть до потери сознания, умей и покормить с ложечки.
— И все-то у тебя получается отлично, да?
— Ну, да, — ухмыляюсь я. Скромность — не мое основное качество, я его даже в резюме никогда не указывала.
— Полежишь со мной?
— А ты не сбежишь? — вырывается у меня из груди. Самое страшное, самое больное…
Он снова покачивает головой. И это, кажется, — последний шаг перед моим прыжком. Головокружительным.
Вниз…
Все-таки — это безумие. То безумие, что заставило меня, будучи абсолютно трезвой, раздеться до трусов в вип-номере ресторана. То, что выжигало меня яростной ревностью все эти дни. Недели…
Я собой недовольна, но я оказываюсь под одеялом в течении нескольких секунд. Меня тянет к нему. Я тянусь к нему. Как не назови это, но держаться нету больше сил… К его губам, к его телу, к нему самому…
Где-то в моем мире тихо плещется боль. На самом донышке.
Жадная, темная, кроющая непроглядным маревом.
И не будь у него исполосована спина, я уже завалила бы его на простыню и устроилась бы сверху, но сейчас этот вариант исключен.
У Верещагина наглые, совершенно невоспитанные руки, но сегодня, после его жертвоприношения я прощу ему и большее, чем просто впиться пальцами в мой бок, прижимая меня к себе.
И все, можно задохнуться от бескрайней, почти пустынной жары.
Хочу его. И все! Сию же секунду. И пусть пеняет на себя. Он мог сбежать. Раньше. Нефиг было тормозить!
Моя пальцы ныряют вниз, сжимают стоящий дыбом член через тонкую ткань. Антон хрипло охает прямо мне в губы.
— Ну что ты делаешь, Ира, — тихонько выстанывает он, — я же сдохну сейчас.
— Что я делаю? — я строю задумчивую физиономию. — А на что похоже?
Я ему дрочу, да. Жадно улавливая каждый рваный выдох, каждый сдавленный стон. Даже близко не подпуская к точке оргазма, нет-нет, раньше меня он сегодня не кончит.
Он такой открытый, почти обнаженный в своих реакциях, и держать его в руках, заставлять вот так задыхаться — о, да, я этого безумно хотела.
— Ира, — в какой-то момент Антон не выдерживает — падает на меня, притискивая к простыне, — я уже не могу, слышишь? Ты хочешь, чтобы я тебя умолял? Какими словами?
М-м-м-м, какая, однако, обнадеживающая эрекция, так и хочется прижаться крепче животом к этим “окаменелостям”…
— Никаких мне слов не надо, — фыркаю я, вжимаясь подушечками пальцев в его бедро, — сейчас ты меня просто трахнешь, мой сладкий, и сделаешь это как следует. На пять звёзд. Как ты не трахал ни одну из своих шлюшек. Ты понял?
— О-о-о, да, — выдыхает Антон кипуче, — слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа…
Черт, мне это точно не снится?
Мне кажется, ещё чуть-чуть, и мной можно будет зажечь костер. А если чуть-чуть потереть в определенном месте — то и маленький город спалить получится.
Антон сдергивал с меня шорты настолько торопливо, что они улетели за пределы кровати и даже сшибли какой-то стакан, который я забыла на подоконнике.
— Трусы забросишь на люстру?
— Да плевать на них, они не помешают, — Антон падает на меня, а я обхватываю его ногами. Только бедра, не выше, я не хочу усугублять. Это и так будет секс через боль.
Мое удовольствие — через его боль.
Что-то у меня в мыслях коротит, срочно нужен хороший электрик. Реально хороший, с дипломом и славой жестокого аудитора. На меньшее я не согласна!
— Вы в ловушке, Антон Викторович, — шепчу я, стискивая его пятую точку покрепче ногами, — бежать собираетесь?
— О нет, — быстрые пальцы касаются моего бедра и отводят в сторону мешающую нам полоску ткани, — я выбираю остаться. Тем более — казнь у меня уже была.
— Никаких пальцев, — тихо шиплю я, когда он касается моей влажной кожи, — сейчас меня интересует только твой член.
— Хорошие новости, — Антон устраивается поудобнее, касается тугой головкой моих пылающих половых губ, — особенно, что только мой.
— Не… — я не успеваю договорить — он просто толкается в мое тело, и меня выгибает от кайфа.
Господи, ну наконец-то…
Не нужны мне никакие прелюдии — прямо сейчас — не нужны. Только он — в моем вечном обоюдовыгодном рабстве.
Где-то там на грани моего сознания хрипит что-то матерное Верещагин. Он аж замер в это свое первое движение, чтобы лишний раз глотнуть воздуха.
Тебе и вправду так хорошо со мной, мой сладкий. Что ты, ты не можешь справиться с ощущениями?
— Такое ощущение, что я сейчас ослепну, — сообщает это чудовище мне исступленным шепотом, а потом двигает бедрами снова. И новый его стон проходится по моей коже морской волной.
Ему хорошо. Со мной. С той, из-за которой он сейчас двигается так медленно, лишь бы не беспокоить спину.
— Ира…
Я хочу запретить ему называть меня по имени. Потому что ну это же невыносимо слушать, как он дышит одним этим «Ира». Невыносимо, я так и кончить могу ненароком. А мне рано!
— Не останавливайся.
— Ни за что, — выстанывает этот паразит и продолжает.
Толчок — и все больше тьмы в моей груди, под веками. Мне кажется, я состою из нее, из этой абсолютной черноты. Клубящейся.
Толчок — и я впиваюсь ногтями в простыню. Могла бы — вцепилась бы в спину, но не могу. Там меня и так было слишком много.
Толчок — и я в который раз ору. Вот именно ору, не вскрикиваю, не издаю стон, никакой фальши и кокетства.
Убью.
Я! Его! Убью!
Нельзя же быть таким…
Нельзя быть таким и при этом не быть моим. Впрочем, ладно, дам ему шанс — он исправляется. Пусть живёт. Только если со мной!
Толчок. Толчок. Толчок.
Он забывается все сильнее. Его движения — все менее осторожные, все меньше он оглядывается на собственную спину. А я… Я лишь жаднее вбираю в себя запах его крови.
Потом — я обработаю его болячки. Сейчас — есть я и он, и ничего больше. Даже имена наши остались где-то там, за границей постели.
Толчок. Толчок. Толчок.
Ему не кажется.
Ему не одному не кажется.
Я слепну тоже. С каждой секундой все сильнее.
Жара ослепляет.
Жара скапливается в тугой ком в груди, а после — взрывается. В затмение.
В горле скребутся кошки… Кто-то слишком много орал сегодня!
Мир собирается из тысячи черных мушек.
— Ты такая чувственная…
Антон дышит мне в шею и касается ее языком. Он не кончил, я чувствую бедром все ту же “твердокаменную” эрекцию.
Взгляд цепляется за всякую фигню. За мою же скомканную футболку на черной простыне.
Господи, как же это все мне сейчас неважно…
Важен язык — сладкий язык, что скользит от моего плеча вверх по шее. Быстро, но без спешки. Неторопливо, но не затянуто. Так бывает?