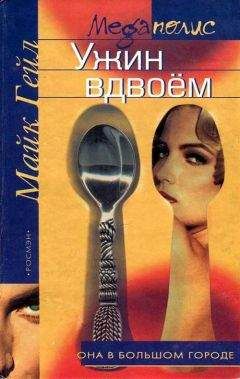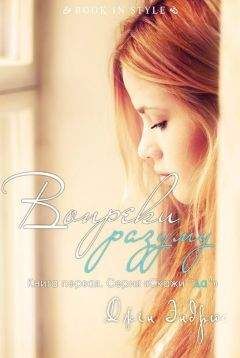— Боюсь, мне пора, — говорю я Кейтлин.
Мы стоим рядом и смотрим, как Никола разворачивает подарки. Кейтлин поднимает на меня грустный взгляд, но отговаривать не пытается, за что я ей благодарен: мне и без того страшно расстраивать Николу.
— Возьмешь с собой кусок пирога? — спрашивает она.
Я с улыбкой качаю головой.
— Только попрощаюсь с Николой и пойду.
Кейтлин хлопает Николу по плечу, что-то шепчет ей на ухо, и Никола объявляет всем, что сейчас вернется, потому что должна поговорить с папой. В первый раз я слышу, как она называет меня папой, и в голосе ее звучит такая гордость, словно она нежданно-негаданно стала обладательницей какой-нибудь сверхмодной фишки.
— Я твоих подарков еще не открывала, — говорит она. — Я их оставила напоследок.
Я смеюсь.
— Да ладно тебе, Никола, не так уж они хороши! Не слушая меня, Никола выкапывает из горы подарков на диване мои, зажимает их под мышкой и, подхватив меня под руку выводит в холл.
— И что мы тут делать будем? — спрашиваю я, когда она прикрывает за собой дверь.
— Немножко побудем вдвоем.
Она садится на ступеньки; я устраиваюсь рядом.
— Какой мне сначала открыть? — спрашивает она.
— Какой хочешь.
Она рассматривает сначала один сверток, потом другой.
— Открою тот, что побольше, — говорит она. — А что там? Можно догадаться?
— Не угадаешь. Сам не знаю, почему я это выбрал. На самом деле я почти уверен, что тебе не понравится.
Она пристально смотрит мне в глаза. А я — на нее.
— Что бы это ни было, мне понравится. Никола осторожно разворачивает обертку и извлекает двенадцатидюймовый сингл.
— Это пластинка! — восклицает она.
— Знаю.
Никола читает надпись на обложке.
— «Parachute Men», «Разреши мне надеть твою куртку». Хорошая группа?
— Это моя любимая пластинка. Самая любимая. Она снова внимательно ее разглядывает.
— Самая-самая? Из всей этой твоей коллекции? Самая лучшая?
— Я ведь не сказал «самая лучшая», — улыбаюсь я. — Я сказал «самая любимая». Эти песни напоминают мне, что музыка, если она по-настоящему хороша, может перевернуть мир.
— А эти «Parachute Men» — они знаменитые?
— Не особенно.
— Заработали кучу денег?
— Очень сомневаюсь.
Она задумывается.
— И все равно это твоя самая-самая любимая пластинка во всем мире?
Я киваю.
— А другая такая же у тебя есть?
— Нет. Это единственная.
И тут она начинает плакать.
— Что случилось, милая? — спрашиваю я.
— Ты подарил мне свою любимую пластинку! — всхлипывает она.
Пальцами я смахиваю с ее щек слезы, обнимаю ее и крепко прижимаю к себе.
— Да. Подарил, потому что хочу, чтобы теперь она была твоя.
— Нет-нет, я ее не возьму! Это же твоя любимая! И у тебя другой нет.
— Милая, пусть теперь она будет твоей. Она — моя любимая, и ты тоже. Я хочу, чтобы вы были вместе.
— Но у меня даже такого проигрывателя нет!
Тут она начинает смеяться: смеюсь и я, потому что мне в голову не пришло, что в наш век компакт-дисков у кого-то в доме может не быть радиолы.
— Я тебе обязательно подарю. На следующий день рождения.
— Знаешь, это лучший в мире подарок! Самый лучший! Я буду его беречь, обещаю!
— Верю, милая. Но хватит об этом: теперь открывай второй. — И я указываю на второй сверток у ее ног.
— А там что?
— Открой, — отвечаю я, — и увидишь.
Она взвешивает сверток на ладони.
— Он совсем легкий.
— Ага. Можно подумать, из бумаги сделан. Но разворачивай осторожно.
Словно зачарованный, я смотрю, как она аккуратно разворачивает сверток.
— Деньги! — восклицает она, расширив глаза от удивления.
— Сто сорок фунтов! — объявляю я. — По десять на каждый год. На самом деле я не хотел дарить тебе деньги. Выглядит это как-то… ну, ты понимаешь. А потом мне вспомнилось, как мы с тобой ходили по магазинам, и я подумал: сам я ничего тебе купить не смогу, обязательно выберу что-нибудь не то, а вот ты сделаешь правильный выбор — у тебя ведь есть вкус.
— Что бы ты ни выбрал, мне бы понравилось, — тихо отвечает она.
— Даже джинсы, выстиранные в кислоте, с пурпурными блестками?
Она смеется.
— Ага. Потому что ты их купил для меня. Конечно, я бы ни за что в них не вышла на улицу — зато надевала бы всякий раз, когда ты к нам приходишь.
— Очень мило с твоей стороны. Но ты точно не обиделась, что я подарил деньги?
— Конечно, нет!
— Только не трать все сразу, — предупреждаю я. — Отдай их маме на хранение и бери у нее понемножку. Если будешь ходить по улице со ста сорока фунтами в кармане, можешь угодить в какую-нибудь переделку.
— Ладно, ладно! — отвечает она. — Ой, сколько я теперь всего куплю! Например… что-нибудь для тебя. Подожди, вот будет у тебя день рождения — я тебе что-нибудь такое подарю!
Придя домой, застаю Иззи в гостиной. Она взяла работу на дом: вокруг разбросаны журнальные номера, папки, записки, исписанные листы, на краешке кофейного столика опасно балансирует ноутбук. Услышав мои шаги, она не поднимает головы и продолжает рыться в бумагах. Дает понять, что ей все равно, здесь я или нет — хотя это совсем не так. Хочет, чтобы мне стало еще паршивее.
— Как ты? — спрашиваю я. — На работе все хорошо?
Иззи бросает на меня короткий взгляд и снова отворачивается.
— Нормально, — отвечает она. — А у тебя как?
— Как обычно. Ничего особенного.
— Кто бы сомневался!
Эти три коротких слова говорят мне об очень многом. Как я ни стараюсь проявлять терпение и понимание, этого недостаточно. Иззи так и не примирилась с существованием Николы. И, похоже, не примирится никогда. Мысли о Николе грызут и точат ее изнутри — и я тому виной. Ее мучения на моей совести.
— Знаешь, может быть, мне лучше переехать, — тихо говорю я.
— Вот так-так! — фыркает она. — Значит, не придумал ничего лучше, как сбежать?
Слова ее, тон, выражение лица — все говорит мне, что Иззи жаждет затеять ссору.
— Бежать я не собираюсь, — спокойно отвечаю я. — Но судя по всему, если я не уйду, от нашего брака мало что останется.
Она набирает воздуху в грудь, словно хочет заговорить, но прикусывает губу и молчит. Я понимаю, что с ней происходит. Гнев ее испарился: теперь Иззи чувствует тоже, что и я — страх. Одним расставанием делу не поможешь: сколько бы мы ни прожили раздельно, наша проблема никуда не денется. Никола по-прежнему останется моей дочерью от другой женщины. И если Иззи не сможет с этим смириться — что же нас ждет?