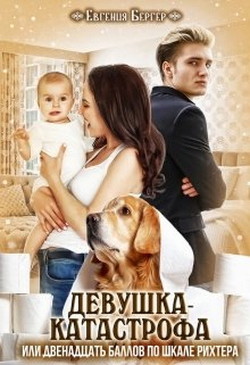Февраль выдался в этом году чрезвычайно холодным, и обе фигурки родителей, завернутые в теплые полупальто, кажутся мне какими-то нереальными и словно забытыми, как смутная память о былом сне. Мы неловко здороваемся. Мне стыдно за то, что я ощущаю отца с матерью такими далекими от моей нынешней жизни и еще хуже становится мне от мысли, что вот эти самые морщинки на отцовском челе, прежде мной не замечаемые, появились на его лице именно из-за меня.
Пальто можете оставить здесь, — указываю я на вешалку у стены. — А теперь сюда… Осторожно, здесь игрушки Ёнаса.
Я слегка отпихиваю ногой вереницу выстроившихся у порога маленьких машинок, и мы все оказываемся лицом к лицу. Ханна такая бледная, что мне страшно за нашу малышку, лежащую у нее на руках — не уронила бы. Ёнас тоже забился под стол и выглядывает оттуда большими, любопытно-опасливыми глазами… Только ба с Мелиссой, словно две воинственные амазанки, сжимают в руках свое импровизированное оружие: скалку — одна, и половник для соуса — другая. Я благодарен им за эту поддержку.
Здравствуй, мама, — обращается к амазанке с половником моя мама. — Давно не виделись.
Не по моей вине, — ворчит та недружелюбно. — Впрочем у меня было чем себя занять, — и она обводит всех нас потеплевшим взглядом. — Я не жалуюсь.
Мама теребит в руках ручку своей кожаной сумки, вижу как ей все это тяжело дается, и решаюсь прийти на помощь.
Мама, это Ханна, — подвожу я ее к своей возлюбленной. — А это наша дочь Эмили.
Твоя дочь? — лепечет она растерянно, и я молюсь, чтобы она не сказала чего-нибудь сверх этого.
Да, мама, — повторяю я твердо, — это моя дочь Эмили.
Несколько бесконечных секунд она молчит, обмениваясь с отцом нечитаемым взглядом своих полинявших (уж не от слез ли?) светло-голубых глаз. Тот на фоне взволнованной матери кажется почти отстраненно-холодным… Один этот вид вызывает у меня спазмы в желудке — кончится ли эта встреча хоть чем-то хорошим?
Можно мне ее подержать? — наконец обращается мама к прикрывшейся ребенком, словно щитом, Ханне. — Она кажется такой маленькой.
Да, конечно, — Ханна осторожно перекладывает малышку с рук на руки. — Ей только второй месяц пошел, но она уже улыбается…
Они с моей матерью обмениваются смущенными взглядами, и я немного оттаиваю.
Нам надо ужин доготавливать, — уведомляет нас в этот момент бабушка и возвращается на кухню. — Мелли, раскатывай тесто. Само оно в рулеты не скатается. Живее!
Мелисса тоже выскальзывает из комнаты, и я подзываю к себе Ёнаса, все еще ведущего наблюдение из-под стола, подобно партизану в тылу врага. Тот несмело подходит.
Это Ёнас… — «мой сын», хочется добавить мне, но я решаю пока не доводить до крайностей и потому просто говорю: — Старший братишка Эмили. Он у нас большой поклонник книг про автомобили…
Отец молча смотрит на нас обоих.
Не покажешь, где у вас тут туалетная комната, — вдруг произносит он свои первые а все время слова. Голос у него хриплый, словно простуженный, и немного надтреснутый.
Да, конечно, пойдем.
Я веду его по нашему новому дому, который мы снимаем не так давно, примерно, три последних месяца, и спазмы в моем желудке все усиливаются и усиливаются — так и до язвы недалеко.
Я указываю отцу на дверь в конце коридора и собираюсь уже было ретироваться, когда он останавливает меня такими словами:
Ты выглядишь счастливым, сынок.
Доброта его голоса ошеломляет меня настолько, что я теряю дар речи. Буквально. Он видит это и делает шаг в мою сторону: лицо исковеркано гримасой боли, руки дрожат…
Марк… прости меня, — шепчет он еле слышно, и в моих глазах вскипают горячие слезы. — Мне так жаль, мальчик мой, прости меня…
Папа… — Отец обнимает меня и начинает глухо рыдать мне в рубашку. Это все еще ошеломляюще и непостижимо, но и животворяще тоже: в этот самый момент я понимаю, что все у нас действительно будет хорошо. Что наше «долго и счастливо» тоже имеет место быть и оно начинается здесь и сейчас.
Ты тоже прости меня, отец, — глухо шепчу я в ответ и крепко сжимаю его дрожащую руку.
Конец.