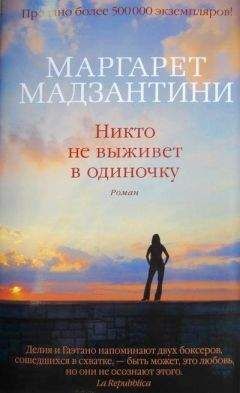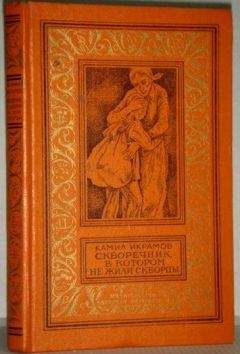— Я хочу быть с тобой.
Она смотрит на меня глазами, которые вода словно бы покрыла ржавчиной, ее рука гладит мои губы, большой палец проникает между моими зубами.
— Ты еще любишь меня? — спрашивает она.
— Гораздо больше, Крапива… Гораздо больше.
Я лижу ее палец, сосу его, словно новорожденный младенец. Это я высасываю и глотаю все то время, в течение которого мы были так далеко друг от друга. Это все еще мы, только на одно лето постаревшие, прижатые к чьей-то парадной двери, поливаемые водой, сбегающей с террас второго этажа, овеваемые запахами мокрого сада, что позади нас, мы — теплая и дымящаяся плоть, прикрытая сырой одеждой… Мы снова нашли друг друга, сейчас мы с нею бесприютные животные. Мой язык уткнулся в линию ее бровей. Она сняла трусики и сжимает их в ладони. Ноги у нее раскинуты, словно у сидящей куклы; носки куцых сапожек, блестящих от воды, глядят в разные стороны. Я двигаю бедрами, располагаюсь внутри нее, а вода в это время проникает в этот наш островок тепла, втекает туда, как в оранжерею, давно не знавшую влаги. Наверху наши оцепеневшие лица, а там, ниже, это вязкое, тянущееся блаженство, которое утаскивает тебя вдаль и уносит с собою все прочее. И нет уже у тебя в спине боязни, что кто-то тебя здесь застанет, надает пинков, примется стыдить. Ты превратился в червяка, созданного из горячей плоти, ты нашел убежище внутри тела, которое ты любишь. Это все еще мы в сумраке наших дыханий. Мы, которым не дано остаться здесь навечно, которые умрут, как умирает все на свете.
Потом в воздухе становится по-настоящему темно и воды по-настоящему много. Ну куда нам пойти? Что за судьба нас ждет? Какая комната окажет нам гостеприимство? Нам было заказано любить друг друга, но мы пренебрегли запретом. Мы отдались любви прямо посреди улицы, словно собаки по весне, — ведь то, что будет потом, неясно, ненадежно, не сулит нам радости. Как неуклюжи теперь наши движения… мы приводим себя в порядок, потом еще одна ласка, последняя… и еще одна волна стыда. Мы это сделали, а делать этого было не нужно, дома беременная жена, и она меня ждет. Что за важность, Италия, ты, главное, надень свои трусики. Да и я тоже, я подтягиваю брюки, торопливо и неловко, действуя под прикрытием плаща, который теперь кажется просто грязной тряпкой, достойной помойки. Никто нас так и не видел, на эту улицу не заглянула ни одна живая душа. Италия поднялась с каменных ступенек; я смотрю на ее совершенно нездешнюю фигуру, закутанную в шерстяной жакет, набрякший от воды. Сейчас она кажется заблудившейся козой, одиноко стоящей на утесе под тропическим ливнем. И вновь все, что с нами происходит, сулит одни ужасы. Совсем рядом погасший уличный фонарь, электрический фонарь. А если бы в то время, как мы любили друг друга, в нас ударила молния? Этакая электрическая змея разделила бы нас и соединила бы навсегда… Голубая трепещущая нить, воткнувшаяся прямо в наше последнее блаженство, — вот тогда да, тогда оно имело бы смысл…
Но сейчас… Сейчас надо провести ладонями по изжеванной одежде, по склеившимся волосам и вернуться, со всей этой вновь заклубившейся нашей кутерьмой, в прежнее положение, вытащить разбитые тела в обычный мир, мелькающий там, в глубине этой улицы, огнями, отраженными в асфальте, выбраться туда, где двигаются автомобили, где спешат под своими зонтиками прохожие. Мы — все еще мы, двое бедолаг, двое жалких любовников, выброшенных на улицу. Лежит на черной мостовой красненький шарик, словно забытое карнавальное сердечко, и Италия на него смотрит.
— Послушай, зачем ты обрезала волосы?
Она не отвечает, улыбается в полумраке, ее зубы неясно обозначаются под тоненькой полоской губ. И таким вот образом мы присоединяемся к толпе; я согнул руку, она положила на нее ладошку, держится за рукав плаща. Мы шагаем совсем тихонько; я чувствую, как ей нелегко идти. Прохожих мало, они чуть задевают нас, не замечая нашего присутствия. Дождь наконец-то почти прекратился, и небо похоже на выжатую простыню, с которой скатываются последние капли.
— Что там у тебя? Ну-ка покажи.
Это опять мы — сидим в баре за самым дальним столиком. За спиной Италии стена, обшитая темными деревянными рейками. Столик тесный, на нем стало мокро от наших мокрых локтей. Под столом мы касаемся друг друга коленями, к подошвам липнут брошенные на пол бумажные салфетки. Я совершил ошибку: положил этот пакетик на стол. Сам не заметил, как это у меня вышло. И вот теперь Италия потянула его к себе. Я задерживаю пакетик.
— Да ничего там особенного нет…
— Ты покажи, покажи.
И тафтяное платьице с воланами появляется на свет, мокрое и измятое.
— Так у вас будет девочка?
Я киваю, глядя вниз, в ладони, сложенные на столе воронкой. Забавно видеть на столе, между мною и ей, эту светлую материю. Меньше часа тому назад я и твоя мать Эльза хохотали перед этим платьицем, сняли его с демонстрационной вешалки и положили в тележку, совершенно счастливые. Сейчас я опять смотрю на него, и оно кажется мне ужасным. Вода промочила его насквозь, пока мы с Италией занимались любовью. Оно выглядит одежкой, снятой с какой-то мертвой девочки, утонувшей в озере. Италия наклонилась над столом; ее руки движутся, они слишком много совершают движений; она расправляет ткань, разглаживает воланы.
— Какая жалость, неужели оно сядет…
Она выворачивает платье, ищет внутренний ярлычок.
— Да нет же, тут разрешается ручная стирка.
Что она там ищет? Что она говорит?
— …выстирать, хорошенько прогладить, и оно будет как новенькое.
Теперь она его складывает, очень заботливо; впечатление, что ей никак не оторваться от этой материи. Глаза ее не желают встречаться с моими, блуждают где-то по сторонам, разглядывают людей, которые двигаются там, в глубине этой харчевни.
— В то утро, когда я сделала аборт, я пришла к твоему дому. Ты вышел из парадной, но я не стала к тебе подходить, рядом была жена. Вы пошли к машине, ты открыл дверцу и легонько ее толкнул. Она сразу поднесла руки к животу, в самом низу… Тут я поняла. Потому что вся моя жизнь была такой — в ней полным-полно разных знаков, они за мной так и ходят.
— Ты никогда меня не простишь, правда?
— Нас с тобою не простит Бог.
Она, Анджела, так и сказала. Я и сейчас слышу эти ее слова, они доносятся до меня из того самого бара, из того дождя, из того далекого времени. Бог нас не простит.
— Бога не существует! — прошептал я, стискивая ледяные ее руки.
Она посмотрела на меня, ей почему-то стало смешно, она пожала плечами.
— Давай надеяться.
Мы не стали уславливаться, когда мы снова увидимся, и вообще ни о чем мы больше говорить не стали. Расстались прямо на улице. Она сказала, что на днях уезжает, что дом переходит к новым хозяевам.