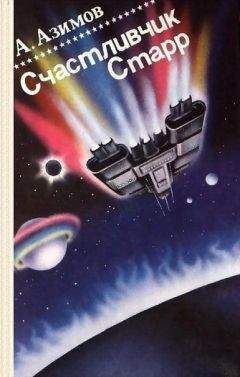Шофер спросил, где ее высадить.
— Где-нибудь в Лондоне, — весело отозвалась Малышка и тотчас вспомнила, что у нее нет при себе денег. Вот уж Джеймс посмеялся бы над ее глупостью! — Знаете, — виновато улыбнулась Малышка, — на самом деле мне нужно в Белгрейвию.
Шофер с любопытством поглядел на нее. Наверняка он не поверил, что она, промокшая, в стареньком пальто и грязных туфлях, может жить в таком богатом районе. Ей показалось необходимым как-то объясниться, наврать что-нибудь, учитывая обстоятельства. Прикинувшись иностранкой и стараясь не переиграть с акцентом, так как это у нее был первый опыт, Малышка сказала, что приехала au pair[1] из Швеции. Ночь она якобы провела у подруги, тоже шведки, а теперь спешит к своему нанимателю, чтобы приготовить детям завтрак.
— А я думал, все шведки блондинки, — сказал шофер и рассмеялся.
— Ну, я не совсем шведка. Просто живу там. Мои родители из Польши. Они перебрались в Швецию перед войной.
Ей самой было удивительно, как легко слетает с ее языка одна лживая фраза за другой. А если это не ложь? В конце концов, что ей известно? Родители сказали лишь, что она сирота. Дитя войны…
— Поляки, — добавила Малышка для полноты картины, — часто бывают темноволосыми и смуглыми.
Шофер хмыкнул. Подобно Малышке, он поддерживал разговор из вежливости. Ему это было ни к чему, по крайней мере он не ожидал подобных подробностей в ответ на простой акт человеколюбия в дождливое холодное утро. Больше он не проронил ни слова, не задал ни одного вопроса и в Лондоне высадил ее возле Гайд-парк-корнер. Дождь лил как из ведра, бурлил в канавах, и небо было черное, все в тучах. Проезжавшие мимо автомобили и такси окатывали Малышку водой из луж. В фургоне она немного подсохла, но пока дошла до Итон-сквер, опять промокла до нитки. На крыльце большого красивого дома, в котором ее родителям принадлежала квартира на верхнем этаже, она стояла уставшая, без пенса в кармане, с промокшими ногами, напоминая себе брошенного ребенка из мелодрамы викторианской эпохи. Лишь фотографии детей, спрятанные у нее на груди под старым плащом, оставались более или менее сухими. «Мое спасение, — подумала Малышка, нажимая на кнопку звонка. Зевая, она привалилась к дверному косяку и стала ждать. — Моя награда за тринадцать лет тяжкого труда.
— Тринадцать лет, — сказала Хилари Мадд. — Взял тебя совсем девочкой, использовал как няньку и домоправительницу, а теперь выкидывает, словно высосанный апельсин! Или выношенную перчатку!
Малышка стояла в ногах родительской кровати, сбросив на пушистый ковер промокший плащ, и улыбалась. Вот бы Джеймс посмеялся, услыхав эти заезженные фразы, или «оригинальные высказывания», по его выражению. Как он смеет смеяться, подумала Малышка и со стыдом вспомнила, что сама смеялась вместе с ним. До чего же она подлаживалась под него! Надо же быть такой невежественной дурой и предавать даже собственных отца с матерью! А ведь наивная мама всегда говорит, что думает и чувствует, хоть и пользуется в горе и радости словами, которые много раз до нее произносили другие. Ну и что? Люди какие были, такие и есть…
— Да еще в годовщину свадьбы, — сказала мама. — Вот уж подгадал. Какая жестокость!
— Ох, мафочка, ерунда это! Правда. Вот все остальное… Думаю, он болен.
— Вздор! Этот человек — чудовище, — уверенно вмешался папа-психиатр, издав короткий, но громкий смешок, и у него, как всегда, вспыхнули щеки. — Признаюсь, я с самого начала так думал! С тех пор, как он позволил своей жуткой матери звать тебя Малышкой! Малышка Джеймса! Чертовы снобы! Наглецы, так я тогда подумал.
— Ну папуля! Ее ведь тоже звали Мэри. Мне было все равно.
Малышка беспомощно смотрела на своих родителей, на опиравшуюся на подушки мафочку, на сердито выпрямившегося, взвинченного папулю в старом, с жирными пятнами халате. Его лицо (напоминавшее маленького филина или ястреба) с годами как будто сморщилось, а мамино — помягчело и обвисло и теперь все в мягких напудренных складках. Каждый раз Малышке, которая всем сердцем любила обоих, было больно видеть новые признаки старения, и ей отчаянно хотелось защитить их, уберечь от печалей. А вместо этого сегодня утром она сама причинила им боль. Чтобы поправить дело и как-то развеселить их, она сказала:
— Знаешь, Джеймс считает, что осчастливил меня, избавив от необходимости зваться Мэри Мадд. Это было последнее, что он сказал мне.
Отец фыркнул, мама закрыла глаза и вздохнула.
— Мои дорогие, — заявила Малышка, — не случилось ничего страшного. Не расстраивайтесь из-за меня, потому что мне на самом деле все равно. Правда-правда, мне все равно. Сейчас, во всяком случае. Просто я чувствую себя дура дурой. Мне стыдно. Ну, я не могу объяснить.
— Вот уж нелепость! — отозвался отец.
— Ты не сделала ничего такого, чего тебе надо стыдиться, — вскричала мама. — Ну что за человек! Отхлестать бы его!
Она сжала маленькие прелестные ручки и в гневе затрясла обвисшим подбородком.
Малышка рассмеялась.
— Как бы там ни было, а я свободна. Он облегчил мне жизнь! Конечно, раньше я так не думала, но теперь мне кажется, я давно этого хотела. Как будто с меня сняли колдовское заклятье.
Так оно и есть, подумала Малышка. Слишком долго она не могла очнуться от волшебного сна, а теперь вернулась к жизни, как Рип Ван Винкль[2], и обнаружила, что ее родители постарели, а в остальном ничуть не изменились. Все такие же мафочка и папуля, как она сама назвала их в детстве и с удовольствием зовет до сих пор.
— Пожалуйста, мафочка, не грусти, — попросила она. — Это совсем не полезно с утра, да еще до завтрака.
— Как раз собирался этим заняться, — подхватил папуля. — Снимай-ка с себя мокрые тряпки и лезь к мафочке в постель, а я принесу поднос.
— Халат висит на двери в ванной, — сказала мама. — Новый, розовый, купила на днях в «Хэрродс». Из прелестной нежной шерсти альпаки. Я всегда считала, что нет ничего лучше настоящей шерсти. Прими горячий душ и не забудь высушить волосы.
Раздеваясь в ванной, послушно вытирая полотенцем мокрые волосы, вдыхая аромат материнских духов, исходивший от халата, Малышка чувствовала, будто вернулась в детство. Завтрак в постели вместе с мафочкой всегда был особым событием. Теперь мама редко вставала раньше одиннадцати (после легкого сердечного приступа в прошлом году ей рекомендовали побольше отдыхать), но она всегда завтракала в постели, потому что так нравилось папуле, который превратил эту привычку едва ли не в священный ритуал. Сам он говорил, что в нем сказывается рабочее происхождение. В его шахтерской семье так же, как в семьях соседей, мужчины разжигали по утрам очаг и приносили женам в постель чай, прежде чем отправиться в забой. Сам Мартин Мадд никогда не спускался в шахту, никогда не работал руками, но ему нравилось готовить яйца всмятку, поджаривать тоненькие тосты и заваривать китайский чай, как бы в подтверждение того, что он не забыл о своих социальных корнях.

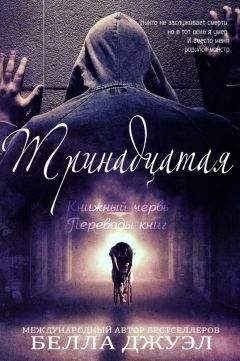
![Татьяна Маркова - Я люблю тебя, малышка! [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/12006/12006.jpg)