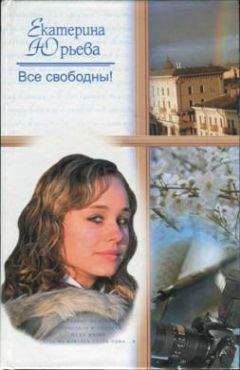— Ох, Юрий Николаевич… — Масик посмотрел на шефа, как на ребенка. — Поживите тут с наше.
— А вообще-то, здесь хорошо.
— А то.
Скворцов начал понимать Масика — зачем тот толокся здесь годы, зачем долбил и долбил свои камни, собирая их и разбирая. И почему перед его маниакальным рвением отступила даже природа. За любовь и преданность все ему открылось — как легкое дыхание.
А теперь Масик просто получал удовольствие.
— Первым поеду. Вы за мной, след в след. — Юрий Николаевич тоже стал узнавать в голосе Масика свои собственные нотки. — Я здесь каждый камешек знаю, — пояснил он уже мягче.
Бориска тем временем принялся развлекать Васю. Сначала она не могла понять, что бы ей такого сделать, но Бориска быстро соображал и предложил соорудить из деревянных настилов что-то похожее на шезлонг. И как-то ловко, Вася даже не успела включиться в спор, справился. Вытащил какие-то шкуры, одеяла, и получилась настоящая люлька, в которую он ее аккуратно уложил.
— А что я буду делать?
— Как что? Лежать. Вам глинтвейн сварить? Я сейчас, — басил Бориска.
В этом был, конечно, колорит. Валяться так практически на Северном полюсе. Солнце было ярким. Казалось, что даже можно загореть. Вася закурила. Взяла кружку с горячим напитком из черных зататуированных рук Бориски. «Да, всюду жизнь», — мелькнуло у нее в голове.
— Все хорошо? — спросил Бориска.
— Отлично. Только вот моря нет.
— Море есть, даже целый океан. До него, правда, далековато. Но не печальтесь, он сейчас все равно холодный.
— Бориска, а вы всегда так… интеллигентно разговариваете?
— Я умею разговаривать по-разному.
— Я понимаю…
— А вы вообще — кто?
— Вор в законе.
Вася поперхнулась.
— Осторожней, Василиса Васильевна. Не встречались еще с ворами в законе?
— Ну почему же? Один мой знакомый батюшка, сейчас представитель патриарха в одной из кавказских республик, тоже был вором в законе.
— Да. Все к Богу придем. Что смотрите? Надоело мне сидеть и руководить в тюрьме, захотелось поработать, вот я у охранников и отпросился. На время, конечно.
— Вы что, сбежали?
— Куда? Откуда? Мы же свободные люди. Вот заработаю денег, приеду — подарков им привезу.
— Шутите?
— Скушно мне, Василиса Васильевна. Вот лет…цать назад было весело. Здоровый был, на плавбазе работал. Там другое. Работать полгода скушно, на берегу два месяца — весело… Плохо помню даже сейчас, что там, на берегу… — Он засмеялся и почесал нос.
— Я помню, я помню, — оживилась Вася и даже подпрыгнула на своем троне. — Я тоже лет, как там…цать назад здесь практику проходила. Когда рыбаки на берег сходили, начинались такие гулянки в городе… А еще любили подраться, да? Рассказывали, что в галантерее они покупали такие квадратные перстни за рубль — с цветными стеклянными камнями, надевали на каждый палец по штуке и в сильном угаре колотили друг дружку с огромным удовольствием. Ха-ха.
— Вы просвещенная дама. Так все и было, Василиса Васильевна. Кастеты запрещены же, поэтому кольца и покупали. Менты за них. Не имели права сажать, как за оружие. И рестораны все гудели. Правду говорите. — Бориска улыбался и качал склоненной на грудь головой. — А жаль, мы тогда с вами не встретились, — он чиркнул взглядом по Васе. — Я бы, пожалуй, за вами приударил.
— А сейчас?
— Сейчас книгу пишу.
Вася взбодрилась. «Охренеть».
— О тяжелой судьбе?
— О судьбе. О радости. У меня уже одна книжка вышла. А что вы ерзаете? Замерзли? Еще принести вам напитка что ли? — Он отложил двустволку, которую до того не выпускал из рук, и поднялся в домик.
— Бориска, Бориска! Магнитофончик принесите. Там где-то в рюкзачке, — кричала Вася ему вслед, суча закутанными ножками. — Супер, супер. Вот материал получится.
Он принес еще кружечку глинтвейна, которая ей была не лишней. Приволок и магнитофон. Она его включила.
— Для чего вам все это?
— Для памяти.
— Ну разве что. А вообще все просто. Утром встал — надо страничку написать. И все остальное отпадает — дела-проблемы, когда о литературе думаешь.
— А что такое литература?
— Святое. Что у меня есть в жизни, то я и пишу.
— Для себя?
— Ну не для себя. — Бориска засмеялся. — Вот сейчас для себя напишу и поставлю на полочку. Для людей, конечно. И мне кажется, что это им надо знать — то, что я знаю. И надо знать, для кого пишешь. Я часто слышу, что для себя пишут. Да врут все. На самом деле все хотят, чтобы прочли. Понимаешь ты? Не для себя, а чтобы людям показать, чтобы люди это приняли. И здесь не надо лицемерить — чтобы опубликовалось, прочиталось и оценка была. Может, я ненормальный, но хочу, чтобы понравилось. Как воспримет это читатель, человек — я о нем думаю. И даже писателям скажу, чтобы о читателе думали — не только о себе.
— А о чем же ваши тексты?
— Я думаю, о православии, о вере. Слово есть Бог. Литература — это слово, согласны? И нужно говорить о хорошем. Мне часто говорят — напиши о тюрьме. А честно сказать, о тюрьме писать неинтересно. Понимаешь ты? Мне охота писать о душе, о том, что человек переживает, пусть в тюрьме. Не о быте тюремном, а об изменении души, как она это переживает — в холоде, в голоде, но душа и сердце. Я думаю о сердечности, о нравственности, и кажется, в моих произведениях они есть. Да, уголовник в прошлом — хочу писать о нравственности. Вам это удивительно? Не надо, чтоб кто-то еще туда попал, куда я попал. Хотя я уголовный мир люблю, между прочим. Не так — я его понял.
— А что там хорошего?
— Мне, например, больше нравилось в изоляторе. Сидишь десять суток — день ешь, день не ешь. Хлеб, кипяток и все. Понимаешь ты? Конечно, в карцер всех сажать не нужно, ни в коем случае, но мне чем понравилось? Сказать? — Он опять заулыбался. — Я стал очищаться, мысли стали появляться, мысли чистые. Полуголодные мысли, кстати, всегда отличные. Я вот сейчас мало ем (не потому, что нечего), и мне так лучше. Насиловать нельзя — кто не хочет, пусть не голодает. Но мне тогда в тюрьме было хорошо, так получилось. Смешно?
— Вы мало едите, а выпиваете?
— Такой грех случается. Но я тихий, никого не трогаю, начинаю копаться в своих рукописях. Но трезвый я больше делаю. Пьянство и курение — это не дело. Понимаешь ты? Никаких дел в таких состояниях делать не надо, ничего не выходит хорошего — ни по литературе, ни по жизни. И для семейной жизни нужна трезвая жизнь.
Кстати, я очень любил коноплю покурить. Покуришь, и такие мысли — опа! И вот пишу, записываю — вознесся уже, куда не знаю. Потом же прочитать невозможно, и не из-за плохого почерка, а понять нельзя, о чем это ты… Покурил, и дурак дураком делаешься — это вот точно. Это такое измерение ненормальное. И очень обманчивое. Ну я решил, что литература важнее, и сжег все запасы. Понимаешь ты? Тоже была история. Приехал друг, привез очень много конопли, и мы с ним курнули. И он говорит: я вот рубаху продал, купил это дело, к тебе приехал. Я говорю: ну и хорошо, давай сожжем. Он подумал, что я шучу, как обычный обкуренный. А я действительно сжег, и он очень обиделся. Но с того раза я больше к траве не притрагивался. Что задумались? Вам история не понравилась?