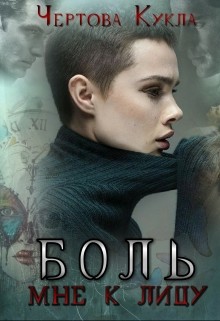бы знал, боже мой, кто бы знал, какими долгими оказываются эти полчаса. Я успеваю сгрызть все губы до кровавых корок, вглядываясь в разгулявшуюся метель, накрывшую город. Мы едва видим сигналы впереди движущихся машин, и я прошу господа бога и святого Николая не оставлять моего сына одного в этом безумии.
— Доехали.
Мы бросаем машину кое-как, взгромоздив темный джип на поребрики. Я вижу впереди машина Рава, сквозь метель, сощурив глаза, замечаю Арса и Виолу, бегущих к нам навстречу. На автомате отмечаю, что они держатся за руки, и когда Ви чуть не падает, понимаю по ее залепленным снегом джинсам на коленях, что это не в первый раз.
— В доме свет включен на первом этаже, я уже позвал ребят, — докладывает четко Рав, но Марк его перебивает:
— Я пойду туда один, — и видя, что друг хочет возразить, отчаянно мотает головой, — она моя мать, понимаешь? А там мой сын.
Но для меня преград нет, и я заявляю:
— Я с тобой, — и так до боли сжимаю его горячие пальцы своей рукой, что становится больно. Соболевский смотрит на меня одно мгновение, в течение которого я думаю — ну давай же, Марк. Сегодня я смогла, я выбрала тебя, я сделала такой огромный шаг на встречу, я прыгнула через пропасть к тебе. Не отталкивай меня назад, я упаду и уже не смогу найти сил подняться.
Он словно считывает это по моему лицу, и, кивнув, говорит:
— Идем.
И мы идем, идем к большому темному дому, который проглядывает сквозь снежную бурю, как огромное черное пятно, огороженное от нас высоким щетинистым забором.
Там, где-то в глубине этого мрачного логова сумасшедшей старухи спрятан главный человек в нашей жизни.
И я голыми руками готова растерзать всякого, кто встанет на моем пути, чтобы забрать Колю домой.
Дом моего детства — темная громада, высокий забор, лысые деревья, все запорошенное снегом. На нечищенных дорожках не видно ни следа, и я иду, утопая в снегу по самые щиколотки, ощущая, что обувь, рассчитанная только на передвижение в машине, не спасает от холода.
Но мне жарко, невыносимо, внутри грудной клетки раскаленное железо вместо сердца, оно бурлит лавой, разбегаясь по сосудам, добавляя какой-то бешеной неуправляемой силы, что заставляет двигаться мое тело шаг за шагом.
Я иду и веду за руку свою жену, в решительном молчании, хотя хотел бы сейчас проделать этот путь сам.
Потому что там впереди — моя мать.
Сломленная горем, настолько, что стала совсем чужой и неуправляемой, настолько, что позволила своему помутнению отнять самое ценное, что есть у меня.
О, как зол я сейчас на себя. На отца, на то, что мы не смогли вовремя остановить это безумие и не дать ей зайти за грань. Мы виноваты в сложившемся ничуть не меньше, чем мать.
Ввожу пароль на кодовом замке, толкаю калитку, прилагая силы. Сердце стучит так гулко, а вот остальных звуков я не слышу.
Мне, черт возьми, страшно.
Что мы не успели, пока я рыскал по соседним улицам и искал своего ребенка, тратил драгоценное время снова не на то.
Ругаю себя, что поехал в офис, слушал Таню, а не был там, где должен был — рядом со своей семьей.
Вот бы переиграть все сейчас, открутить назад, чтобы сделать все правильно, но у меня нет маховика времени и даже долбаной волшебной палочки. Никто не осуществит мое единственное желание — чтобы сын был жив и здоров, кроме меня.
Я сам себе творец своей реальности.
— А что, если…
Мира дрожит так сильно, что зуб не попадает на зуб, и не понятно, нервы или холод тому виной, или все разом.
— С ним все в порядке, — в который раз заверяю, но верить своим словам не выходит. Я не знаю своей матери.
Мира еще крепче сжимает мою руку, когда мы оказываемся на крыльце. Дверь дома моего детства, места, где меня любили, где я был самым важным и нужным. Я помню первые годы своей жизни, даже в самом маленьком возрасте, помню рядом отца и маму, и столько хороших моментов в саду позади дома. Яблони, что цвели весной буйным цветом, сиреневый куст, кучу цветов, — мы никогда не использовали сад как огород, отец умел зарабатывать и содержать семью, пусть это были не огромные деньги, но всего было в достатке. У меня были лучшие игрушки, велосипед, компьютер, позже — телефон одним из первых.
Только все это закончилось, когда не стало Владика, и на каждое счастливое воспоминание, как в страшной сказке, наложилась трагедия, как темный отпечаток.
И жить в этом доме стало невмоготу, возвращаться сюда — словно нырять в темный омут с головой, туда, где дна не видно и шансов выплыть почти нет.
— Идем, — шепчет Мира, выдергивая меня из секундного оцепенения, в которое я впадаю всякий раз, как оказываясь здесь. Но слабым мне быть не положено, я отец. Я обязан защитить своего сына.
Дверь открывается легко, словно нас тут ждали. Внутри дома, в дальней комнате горит свет, и хоть сейчас еще день, но остальное пространство тонет в сумраке. Я не скидываю обувь, иду вперед, оставляя за собой налипшие ошмётки снега прямо на ковре, выстилающем дорогу.
Дыхание сбито: я узнаю и не узнаю этот дом. Он выглядит так же, как и раньше, но в то же время, многое в нем изменилось: видно, что комнатам требуется ремонт, мебель устарела, местами лежит пыль.
Я чувствую, что дом настороженно наблюдает за мной, встречая, как чужака, и это ощущается почти физически. Ну и пусть, я не нуждаюсь в любви этого места. Нас уже давно ничего не связывает.
— Мама, — зову ее вполголоса, а потом, уже ничего не боясь, добавляю громче, — МАМА!
Потому что я не слышу Коли. И это пугает до ужаса, я уже вбегаю во все комнаты по очереди, пока не останавливаюсь в самой дальней — той, что предназначалась Владику, но так и не стала его детской.
Рассеянный свет от ночника освещает пространство едва-едва, и тени кажутся острыми и неприветливыми.
Я вижу свою мать, сидящую в кресле, в длинной белой ночной рубашке, лицом к окну. Она похожа сейчас на привидение, пугающее и противоестественное.
— Мам, — зову ее, застряв на пороге, но она не оборачивается, я вообще не уверен, слышит ли она кого-нибудь, глядя сейчас в никуда.
Мира толкает меня, протискиваясь вперед, и ахает.
И я понимаю, почему.
Вся