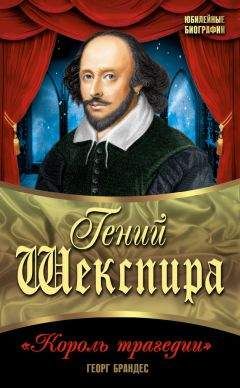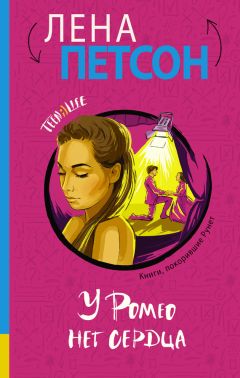Я обманывала себя, говорила себе, что все это бабские бредни, мнительность. Но вот очередная наша, обычная вроде бы вечерняя «доза», когда мы остались одни в редакции, — и вдруг я чувствую, что вместо того, чтобы любить его просто и раскрепощенно, как раньше, я проявляю какую-то суетливую старательность, словно практикантка в борделе, желающая блеснуть умением и заслужить похвалу клиента, а при этом всем своим телом слушаю его тело, стараясь заметить, не произошло ли чего нового, не ищет ли уже его рука другие очертания и контуры, не появилось ли в нем что-то неуловимое, но осязаемое, тем самым шестым чувством, которое есть у всякой любящей женщины…
Нет, ничего особенного я не заметила. Но поняла: прежнего не будет. Может, он еще не изменился, но я изменилась. Я не смогу теперь перебороть себя, я так и буду прислушиваться, присматриваться, приглядываться…
Мне было плохо в эти дни, просто физически плохо, хотя работала я за двоих, именно за двоих, так как Илья стал пренебрегать многими своими обязанностями. Я прикрыла его, как выражаются в фильмах-боевиках.
Чтобы окончательно не расклеиться, пошла к старичку невропатологу Штыро.
— Что-нибудь случилось? — спросил он, едва взглянув на меня.
Я кивнула и расплакалась.
Я расплакалась впервые… сказать, за сколько?
Я расплакалась впервые за всю свою взрослую жизнь.
И рассказала Штыро о том, что со мной происходит.
Я ждала расспросов. Утешения. Или, наоборот, чтобы он окончательно убедил меня в основательности моих подозрений.
Не знаю, чего я ждала. Но только не того, что он сказал мне. Крутя в дрожащих пальцах карандаш, опустив глаза в крупнокалиберных очках, он произнес, перхая и заикаясь:
— Послушайте, Людмила. С вами можно говорить только открыто. И вот я говорю вам. Вы только послушайте, не перебивайте.
— Я слушаю, слушаю.
— Сложилась ситуация, о которой я вас предупреждал. Ваш… друг… или уже изменил вам, или готовится к измене. Вы это поняли. Вы заранее в шоке. Это опасно. Надо этот шок предупредить.
— Самой изменить, что ли?
— Вы дослушайте, вы, пожалуйста, дослушайте… Изменить? Да! Хладнокровно и целенаправленно. И этим освободить себя. От зависимости. Ну, как, — попытался он пошутить, — привыкание к какому-то транквилизатору часто снимают с помощью другого транквилизатора.
— И где мне его искать? — спросила я.
— С вашими-то данными! — воскликнул он, на мгновенье подняв и опустив очки и начав опять перхать. — Я только прошу вас дослушать до конца.
— Да я и не сопротивляюсь!
— …до конца, потому что сначала это вам покажется нелепым, но если вы вдумаетесь… Понимаете… Может, я кажусь вам старым…
Я чуть не рассмеялась, издала какой-то странный звук. Он тут же резко поднял голову:
— Что?
— Ничего. Я слушаю.
И я стала слушать дальше, подумав вскользь, что, называя Штыро всегда мысленно старичком, скорее иронизировала; ему ведь около пятидесяти пяти, а это еще никакая не старость. Да и выглядит он вполне съедобно. Коренаст и сутуловат, но нет лишнего жира, в движениях своеобразная тяжеловесная гибкость…
— Так вот… Давайте отнесемся ко всему с юмором…
(Уж к чему, к чему, а к этому я была вполне готова!)
— … отнесемся с юмором и… Короче… Нет, я не предлагаю себя вам в любовники… Хотя… Нет, я трезво смотрю на вещи. Я не красавец, мне пятьдесят шесть лет. Но, поверьте, я в прекрасной физической форме. Я никогда не был женат. Знаете почему? Потому что всегда был, извините за прямоту, бабник. Вы этого не замечали и не могли заметить, потому что я относился и отношусь к вам по-особенному. У меня было бесчисленное количество романов. У меня опыт и, извините, мастерство.
Голос его креп от слова к слову, он глядел уже не в стол, а на меня своими близорукими огромными глазами сквозь толстые очки. Он глядел уже твердо, и была в его осанке, черт побери, гордость какая-то, привлекательность! И ничего старческого. И, между прочим, все зубы или целые, или очень аккуратно починены хорошим дантистом. И дыхание, кажется, свежее.
— Я говорю без экивоков. Вам необходимо изменить. Говорю как врач. И я готов прийти вам на помощь.
Ого! Да он совсем осмелел! Он вовсю шутит.
Я готова была уже высмеять его, без особой злобы, конечно, но так, чтобы навсегда отшибло у него охоту делать мне подобные предложения. Но не успела. Он продолжил без всяких шуток, серьезно, веско. Грустно.
— Конечно, это выглядит нелепо. Но, поверьте, Люда… Для меня это будет самый счастливый день в жизни. Потому что никого я так… Понимаете?
— Вполне. То есть я сразу два добрых дела сделаю: и себя полечу, и вас осчастливлю?
Он промолчал.
— Извините, — сказала я.
— Ничего, — сказал Штыро. — Считайте, что этого разговора не было.
— Почему? Разговор был. И есть.
— Вы серьезно?
— Вполне. И вы правы, было бы гораздо смешнее, если б вы подъезжали с разными там подходцами, намеками и так далее. Вы правы. У меня хороший задел в работе, и завтра с обеда я свободна. Часов с трех. А вы?
— Завтра?
Похоже, он перепугался: неужели так скоро?
— Да, завтра.
— Завтра, хорошо. То есть я несколько занят, но я… Это нетрудно. Если вас устроит в пять часов, то…
— Вы далеко живете?
— Рядом!
И он дал мне свой адрес. Это было действительно рядом.
Что ж, нанесем упреждающий удар.
Я не предполагала, что буду так волноваться.
И не в одном волнении дело. Я, в сущности, впервые в жизни почувствовала себя действительно изменяющей. Одно — регулярно обманывать мужа милого, да постылого, совсем другое — обмануть любимого человека. Пока любимого.
Но я не видела выхода. Я вбила себе в голову, что все скоро кончится, что меня могут бросить, а я не могу быть одна, я не могу, блин, чтобы меня не любили. Штыро, конечно, не замена. Это будет проба. Генеральная репетиция. Упражнение на тему: могу ли я быть с другим?
Я старательно подготовилась. Я цвела и благоухала.
Я старалась не замечать, как подрагивали пальцы Якова Яковлевича, когда он разливал шампанское.
У него было уютно, квартира не имела на себе печати холодного холостячества, она не выглядела одинокой. И это меня почему-то приободрило.
Старичок, похоже, и впрямь был опытен. Вел легкий разговор, мимоходом руку поцеловал, мимоходом коснулся щеки. И вообще был совсем другим: я ведь в белом халате его привыкла видеть и в очках. Здесь же, в домашнем приглушенном свете, его глаза даже не выглядели уставшими и набрякшими, как это бывает у близоруких людей, снявших очки.