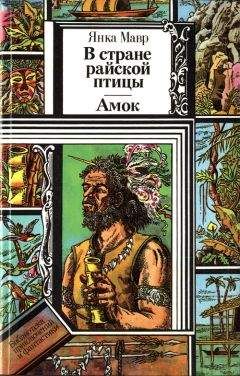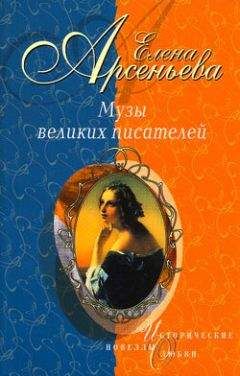У меня куча причин, чтобы любить своего отца, но помимо всего прочего мне нравится, как мастерски он формулирует суть проблемы при помощи цитат. У него на любой случай находится подходящая цитата.
— А ты что, несчастлива? — спросил он.
— Дело не только в этом, — начала я. — Просто все вокруг стало таким монотонным, таким одинаковым. Как подумаешь, что все интересное в жизни уже случилось и теперь до скончания веков будет все одно и то же и даже вспомнить будет не о чем…
Я говорила и слышала нотки обиженного ребенка в своем голосе, но даже это не смогло снизить накал моих чувств.
— Просто возраст у тебя сейчас такой, Хло. Вышла замуж, завела детей… и что дальше? Со мной в сорок лет такое же было.
— И что ты сделал?
Папа долго не отвечал. Я посмотрела в окно — светало. Шел дождь, и я слышала, как все чаще мимо дома проносятся машины, шелестя мокрыми шинами по асфальту. Мир протирал глазки и постепенно приходил в себя. Новый день. Но насколько новый? Не станет ли он просто повторением старого, вчерашнего дня?
Я ждала. На другом конце провода папа прокашлялся.
— Знаешь, Хло, я тебе свой способ не рекомендую, но вообще-то я тогда завел роман.
Я промолчала. Полузабытое, непрошеное воспоминание всплыло в голове. Звонок телефона, поток ругани, грохот разбитого аппарата, серое лицо папы, красные, полные слез глаза мамы, полукрик-полушепот из-за закрытых дверей. Потом папа неожиданно уехал на несколько дней, «посмотреть шоу на его музыку в «Лидсе». Мне тогда было около двенадцати. Я ничего не понимала, но знала, что развод если и не неминуем, то точно возможен. С эгоизмом, присущим только детям, я думала об одном: «Разрешат ли мне остаться с папой?»
— Господи… А мама знала? — наконец вымолвила я.
— Узнала позже, — ответил папа. — Давай я все тебе объясню, когда мы встретимся.
В семье мама была младшей из четырех детей, самой желанной и избалованной, единственной дочкой, надежду на появление которой почти потеряли после рождения трех мальчиков подряд. Родные были так рады, что в семье наконец будет девочка, что называли ее не иначе как Девчушка. По-другому ее никто и никогда не называл, да она бы этого и не допустила. На самом деле ее звали Гертруда, Гертруда Нимэн.
— Звучит так, словно я толстая матрона с распухшими коленками, — жаловалась мама.
Ребенком она поражала своей красотой и, по словам родни, появилась на свет с длинными темными кудрями и ножками прирожденной танцовщицы. Танцевать она научилась примерно тогда же, когда и ходить, а в возрасте восьми лет выиграла стипендию Королевской балетной школы. Ее родители, потомственные талмудические евреи (папа был раввином, а мама учительницей), мешать ее занятиям не собирались, но только при условии, что она станет исполнительницей классических танцев, которые приравнивались к «искусству». Гораздо труднее им пришлось, когда выяснилось, что мама бросила балетную школу и отдалась свободе «развратных мюзиклов» Уэст-Энда. Ну а когда они узнали, что она влюбилась и вышла замуж за моего отца, ужас их не знал границ. Он был старше на десять лет и сочинял те самые мюзиклы, которые отвратили ее от истинного предназначения. А то, что его родители занимались «шмоточным» бизнесом (держали магазин одежды), позволило им поставить на папу позорное клеймо.
— Мы — ученые евреи. Чтобы наша дочь вышла за денежного еврея? Да ни за что! — кипятились они.
— Ну он хотя бы еврей, — парировала мама.
Они побледнели. А уже через неделю снова расцеловывали маму в щечки и поражались, до чего же она красивая. Она же была их чудом, даром Божьим; как они могли на нее обижаться?
Мама была удивительным человеком — не от мира сего. Все вокруг только и твердили, как же мне повезло, что именно она моя мама. Совсем не типичная наседка, без всяких там «садись за стол, я тебя покормлю», и очень скоро наши роли перепутались и поменялись, так что уже подростком я была ответственной и взрослой, а она — маленьким, депрессивным, угрюмым тираном в юбке. Возвращаясь из школы, я вставляла ключ в дверь и принюхивалась. По слабому, еле заметному запаху я понимала, все ли в порядке в мамином, а значит, и моем мире. Я чуяла мамино недовольство или расстройство за двадцать метров до дома. В такие дни она лежала на кровати в темной комнате, говорила безжизненным и монотонным голосом. Я ходила вокруг на цыпочках, боясь испортить все еще больше, и пыталась исправить ее плохое настроение, предлагая что-нибудь поесть или попить. Все мои предложения яростно отвергались. — Видимо, ты хочешь, чтобы я растолстела, — говорила мама. — Вот о чем ты мечтаешь — о толстой пышке, которая вела бы себя как настоящая мамочка, да?
Наверное, она была права. Я и правда хотела, чтобы моя мама была такой, а не непредсказуемой и несчастной женщиной, прячущейся в полутьме спальни. Настроение у нее менялось моментально. Стоило раздаться звонку в дверь, как она тут же вскакивала с кровати, наносила макияж и «выходила на сцену», чтобы выступать и ослеплять. Радуясь нежданным гостям, она мгновенно забывала о своей недавней депрессии. Она уже давно не танцевала, так что теперь ее публикой стали друзья и знакомые. Без них она увядала, а нас с папой ей для поддержки не хватало.
Эта зависимость от зрителей напрочь отбила у меня тягу к шоу-бизнесу, и я обратилась к книгам. От мамы я унаследовала ноги танцовщицы, но, в отличие от нее, никакого желания демонстрировать их (или какие-либо другие части тела) не проявляла. Долгие годы, наблюдая за мамой, оказавшейся во власти хандры, я поклялась, что у меня никогда не будет депрессий. Это превратилось у меня в фобию. Наивные мечты о том, что я могу стать властительницей собственного разума, подтолкнули (а точнее сказать, пнули) меня в сторону психотерапии. Я пошла обратно в спальню. Сквозь окно в желтом сиянии ближайшего фонаря увидела Даму-с-голубями. Как всегда, ее окружали голуби. Иногда она беседовала с ними, словно они ее лучшие друзья, иногда они ругались. Как будто птицы сказали ей что-то страшно обидное, и она принималась страстно их отчитывать. Снова и снова, туго затянув пояс пальто на тощем теле, она подскакивала к ним, кричала и бранилась. На этот раз два голубя остались глухи к ее крикам. Стоя рядышком на тротуаре, они поклевывали асфальт, и один голубь, казалось, защищал второго, прикрыв крылом. К ним подлетала третья птица, явно стараясь их разъединить. Именно это делала и я со своими родителями: будучи папиной любимицей, разрушила их союз и заставила их отдалиться друг от друга. Помнится, по ночам я уходила из спальни, оставляя брата Сэмми одного, и пробиралась в кровать родителей, силой пробивая себе путь к серединке. Своими маленькими пяточками я отпихивала маму подальше, чтобы занять законное место рядом с отцом. После этого я победоносно водружала голову ему на грудь и засыпала.
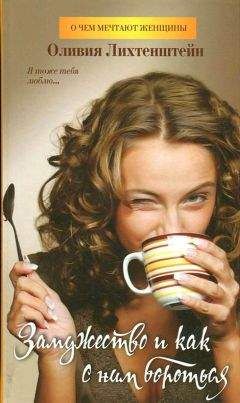
![Даниэль Дефо - Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](https://cdn.my-library.info/books/19937/19937.jpg)