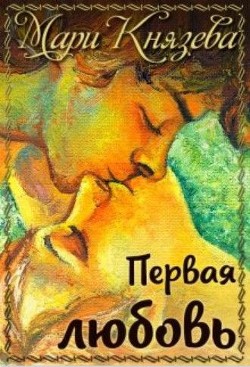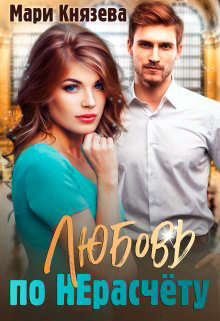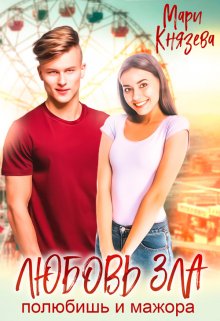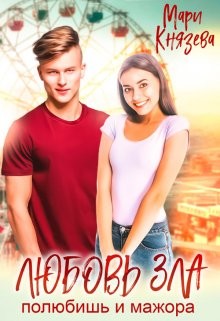меня! Ты должна знать все, раз уж решила сделать такой окончательный и бесповоротный выбор!
Я почти насильно усадил ее на лавку. Она зажмурилась и зажала уши. А меня обуяло дикое упрямство, я бы сказал — бешенство. Я уселся с ней рядом, прихватил руками и поцеловал ее ладонь, зажимавшую ухо. Потом волосы, потом щеку. Маша принялась отталкивать меня, пища что-то неразборчиво.
— Выслушай меня! — прорычал я. — Иначе я не отстану, хоть пинайся!
Она скрестила руки на груди и обреченно уставилась в землю.
— Ты знаешь, что такое м***а [4]? — спросил я срывающимся голосом.
Ее щеки подернулись румянцем, она долго молчала, но потом кивнула.
— Глеб выращивал ее на продажу, большую партию, позапрошлым летом, — выдохнул я. — И получил за это хорошие деньги.
Опять долгая театральная пауза и наконец хриплое:
— От кого?
— Что? — переспросил я, уже успев улететь мыслями куда-то далеко. На меня напало странное оцепенение.
— Кто заплатил ему хорошие деньги?
— Правильный вопрос, Манюся. Точнее, ты хотела спросить, откуда я об этом знаю. Все верно. Это я. Заплатил.
Она встала со скамейки, и я не стал ее удерживать.
— Понятно. Спасибо. Мне… в самом деле следовало это знать. Теперь я свободна?
Я не сразу понял, что это вопрос. Маша сделала несколько шагов на выход, но потом развернулась:
— А дальше? Что с этим сделал ты?
— Как ты думаешь?
— А эта… история с Гусевым и Лебедевым — твоих рук дело? Это ты продал им..?
— Нет! — во мне опять всколыхнулся гнев. — Я этой дрянью не занимаюсь!
— Что ж, твоя дрянь лучше?
— Несравнимо. Это совершенно разные вещи. От моей люди не совершают подобных поступков.
— Так ты оправдываешь себя?
— Мне не нужно себя оправдывать. Я делаю то, что считаю нужным и уместным.
— Ты преступник, Денис.
— Как и твой Глеб.
— Это последнее, о чем тебе стоило бы заботиться.
— Ты заявишь в полицию? На нас обоих?
Она поникла:
— Нет. Я не смогу. Но это точно последний раз, когда мы видимся. Я не желаю иметь с тобой ничего общего.
И она ушла. Я потер лицо руками, встал и принялся ходить. Тугой железный обруч сдавил мне грудь, мешая дышать. Черт, почему мне не легче? Почему так тяжело, будто я не на Стрельникова сбросил камень, а на себя?
Вся эта история окончательно превратилась в кошмар, я ощущал себя на волоске от депрессии.
Несколько дней я пролежал в кровати, не в силах ни уехать в город, ни даже встать и пойти сделать хоть что-нибудь. Мне снились дикие сны, больше напоминавшие горячечный бред. Будто мы трое: я, Маша и Глеб — связанные тонкими нитями стеклянные шарики. Нити эти перепутались, и когда мне стало невмоготу их распутывать, я просто обрезал их одним движением ножниц — и шарики разлетелись в стороны со звонким дребезгом. Больше нас ничего не связывает, и это намного больнее ощущать, чем те узлы, благодаря которым я чувствовал себя живым. Теперь вокруг осталась одна пустота, и я предпочел бы без конца препираться со Стрельниковым и остаться с Машей реальными друзьями, чем повиснуть в этом бесконечном вакууме.
Но все кончено. Я бесповоротно испортил свою реальность. Я потерял Марусю и разрушил ее веру в людей. Она никогда больше не сможет так полюбить, как любила в первый раз — безоглядно и самоотрешенно — пусть даже и Стрельникова. Ничего нельзя вернуть, ничего нельзя исправить. Меня буквально тошнило от нежелания принимать свершившееся.
ГЛЕБ
Я знал, что сегодня все закончится. Что Уваров не станет держать при себе наши с ним секреты, когда поймет, что его песенка спета. Не тот характер. Он точно не захочет тонуть в одиночку.
Весь день я думал об этом, переживал, нервничал, а вечером вдруг преисполнился трусости — и не пошел к Маше. Вернувшись с работы, как обычно, принял душ; есть не стал — не было аппетита. Ушел к себе в комнату и упал без сил на кровать.
— Ты чего, бро, к зазнобе своей не пойдешь? — удивился Федос.
Я качнул головой.
— Поссорились, что ли, опять?
— Нет. Просто я устал.
Да уж, жить на вулкане — это то еще изматывающее удовольствие…
Маша пришла сама, мама проводила ее ко мне. Моя девушка выглядела примерно так, как я и ожидал: тихой, печальной, обреченной.
— Глеб… ну скажи, неужели ты правда считаешь, что деньги важнее чистой совести? — спросила она.
— Иногда — да, — сознался я. Те деньги действительно были мне нужны, вовсе не на праздные развлечения, но я знал, что сейчас это будет выглядеть как самооправдания.
— Я не согласна с тобой, — покачала головой Маша.
— Я знаю. Ты молодец. Держись.
По ее щеке скатилась слеза. Я отвернулся к стенке, пытаясь сглотнуть ком в горле.
— Ты… мог бы поступить так еще раз? — спросила она шепотом, старясь сдержать истерику.
— Я не знаю, Маш. Это зависит от обстоятельств.
— От каких?
— От того, насколько это будет необходимо. Конечно, я постараюсь не прибегать… это крайние меры…
— Но твоя семья… ты понимаешь, какой это позор, если тебя… посадят?
— Мужчина — на то и мужчина, чтобы брать на себя риск, когда этого требуют обстоятельства.
— Это не благородный риск.
Я вспылил, повернулся к ней и повысил голос:
— Маш, об этом легко рассуждать, когда у тебя все есть! Ты просто не представляешь, какие бывают ситуации!
— Всегда можно решить, обратиться к кому-то за помощью…
— Это бессмысленный разговор, — отрезал я. — Ты меня не поймешь, я с тобой не соглашусь.
— Ладно, — опять тихим, упавшим голосом согласилась она. — Ладно…
Вышла из комнаты, аккуратно прикрыла дверь. Вместе с ней меня покинула надежда на будущее. А я уже успел так размечтаться…
МАША
Как я провела ту неделю — не помню. Будто спала все время или, вернее, впала в кому. Ни о чем не хотелось думать, никого — видеть. Мама пару раз пыталась выяснить, что случилось, но даже если бы захотела, я бы не смогла ей рассказать. Такой позор, такая боль — у меня перехватывало горло от одной только мысли об этом. Все-таки я ошибалась в Глебе, и все вокруг ошибались. Он не хороший человек. Он готов обменять душу на тридцать серебряников. Да, именно так, ведь он даже не разбогател. Потратил, видимо, эти деньги на какие-нибудь пустые развлечения. Как обидно, как горько! Ведь