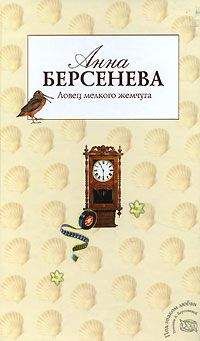Ознакомительная версия.
– Я тебя встречу, – повторил он. – Я тебя люблю.
Нина встала и вышла из бара.
Георгий поднялся из-за стола сразу же, как только выключил телефон, но еще пришлось расплачиваться с барменом, и поэтому он оказался в номере, когда она уже была там – стояла у распахнутого балкона и смотрела на темное море, по которому плыл маленький сияющий катер. Мокрые пряди тяжело лежали на ее плечах: в Марсашлокке она купалась, и волосы еще не высохли. Впервые она не оглянулась, услышав, что он открыл дверь.
– Нина, – сказал Георгий ей в спину, – ты же все поняла…
– Я давно поняла, – ответила она, по-прежнему не оборачиваясь. – Еще в Москве. Сразу.
– Собирайся, едем в аэропорт, – сказал он. – Не надо тебе одной здесь оставаться.
Она наконец обернулась, но по-прежнему не взглянула на него, а, стремительно пройдя через весь их просторный роскошный номер, открыла зеркальный, на всю стену, шкаф и достала из него дорожную сумку.
Внизу, в холле, Георгий задержался у стойки, отдавая ключи портье. Нина сидела в кожаном кресле у выхода и смотрела прямо перед собою темными, как пропасти Пиренеев, глазами.
Он достал телефон, набрал номер.
– Тамара Андреевна, – сказал он, – извините, некогда подробно объяснять. Мы возвращаемся в Москву, я вам позвоню, когда сядем в самолет, и скажу номер рейса. Пожалуйста, встретьте в Шереметьево. – И, помедлив секунду, добавил: – Нина поедет домой с вами.
– Куда домой – ко мне? – растерянно переспросила ее мама. – Или к себе? Или… к вам?
– Я не знаю. Я вас очень прошу, отвезите ее, куда она скажет.
Прямого рейса ночью не было, но ожидали посадки самолета, летевшего транзитом в Москву из Сенегала. Георгий намертво встал у окошка кассы, как будто это был не цивилизованный европейский аэропорт в ноябре, а автобусный вокзал в Таганроге в разгар дачного сезона. Со стороны он, наверное, выглядел жутковато: огромный, совершенно не загоревший, несмотря на солнечную мальтийскую осень, с белым лицом и с темными кругами у глаз, и глаза – как ножи. Но ему было наплевать на то, как он выглядит со стороны.
Уже через полчаса выяснилось, что к кассе он встал не зря. Желающих улететь в Москву почему-то собралось довольно много, и все они рвались к окошку, и нервничали, и матерились. Даже услышав мат, Георгий не сразу понял, что стоит в толпе соотечественников. Просто ему было ни до чего – вся его воля и страсть были направлены только на одно: быть в Москве в ту минуту, когда прилетит Ули, чтобы не пробыть без нее больше ни одной лишней минуты.
– Парень, ты что, уснул? – услышал он. – Ну пусти перед собой, а? Я ж, блин, не виноват, что начальство гребаное вызывать вызывает, а билеты заказать – хрена собачьего, добирайся сам как хочешь. Прикинь, и так ведь обидно: все как белые люди на Мальте пьют-гуляют, а я как бобик езжай куда-то в Муркину Жопу с президентом малахольным, как будто в Москве дураков не нашлось!
Судя по этим словам, по жилету со множеством карманов, а еще точнее, по обиженному на весь белый свет лицу молодого парня, который теребил Георгия за рукав ветровки, – тот был телевизионщиком и его срочно отзывали с фестиваля. В любой другой раз Георгий, конечно, вник бы в его тяжелое положение и пропустил перед собой в кассу, но только не сейчас.
– Становись за мной, – сказал он. – Хоть стреляй – вперед не пущу.
– Ну ладно, ладно! – сказал парень, почему-то опасливо. – Че глаза у тебя чумовые такие? За тобой так за тобой, я ж ничего…
В самолете было душно, пахло чем-то резким и непривычным, и он был полон чернокожих сенегальцев в белоснежных балахонах. Как только улеглась посадочная суета, выяснилось, что билетов на Мальте продали больше, чем было свободных мест, но покидать салон, как умоляла стюардесса, никто не собирался.
Георгий с трудом нашел для Нины место в самом хвосте, где столбом стоял сизый сигаретный дым, и присел на корточки рядом с ее креслом. Ее рука с обвитой вокруг запястья золотой цепочкой-ленточкой лежала на подлокотнике, длинные пальцы вздрагивали, и он чуть не накрыл ее руку своей ладонью, но вовремя понял, что такого мученья Нина не заслужила. Все-таки, наверное, рука его как-нибудь дернулась, потому что она вдруг проговорила, по-прежнему не глядя в его сторону:
– Офигенно добрый, да? Думаешь, если собаке хвост постепенно отпиливать, то это ей легче? Да нет, лучше уж сразу отрубить.
А может, совсем не дернулась у него рука, а просто Нина чувствовала все, что он еще только собирался сделать.
Она не оглянулась на него и в Шереметьево, когда вышли в гудящий зал прилетов и им навстречу бросилась перепуганная Тамара Андреевна, не оглянулась и на площадке, к которой подъезжали такси…
– Нина, – сказал он – снова ей в спину, – прости ты меня, если можешь.
И тут же подумал: «Убить бы тебя, козла, а не прощать».
– Херню бы не порол, – сказала Нина и вдруг обернулась так стремительно, что ее волосы хлестнули его по лицу. – Вроде раньше соображал ты не туго. Ну, влюбился, и что теперь, всю жизнь со мной возиться, как с инвалидом детства?
Она говорила резко, грубо и правильно – говорила то, что он знал и сам. Но когда она вдруг вскинула руки ему на плечи и прямо взглянула в глаза своими пиренейскими глазами, Георгий совершенно отчетливо понял: такого он не делал никогда в жизни.
Он думал, что она скажет еще что-нибудь, но Нина не сказала ничего – убрала руки, отвернулась и пошла к такси, бросив по дороге:
– Поехали, маман.
Георгий жил с Ули уже три месяца, и каждый новый день доказывал ему, что жизнь его дала очередной резкий крен, которого он совсем не ожидал.
Он был готов к этому, когда ушел в армию, когда приехал в Москву, когда поступил во ВГИК… Но он никогда не думал, что такой вот поворот может быть для него связан с женщиной. Прежде все они скользили по краю его жизни, ни в чем ее не меняя.
Теперь же он чувствовал, что попал в какое-то очень сильное поле, в котором невозможно жить так, как он жил до сих пор. И не знал, как к этому относиться.
Впервые после того как он уехал из родного дома, его жизнь – именно повседневная жизнь, которую принято называть бытом, – стала внятной и удобной. Это оказалось для него неожиданностью: Георгий настолько привык к тому, что его быт как-то скуден, неловок, бестолков, что уже перестал обращать на это внимание.
Как ни аккуратен был Федька Казенав, все-таки их жизнь в общаге оставалась общаговской жизнью – с бесконечными пьянками, случайными женщинами, которые время от времени оказывались в их кроватях, с шумными компаниями, которые вваливались среди ночи.
Жизнь с Ниной вообще являла собою что-то фантастическое. Георгий отвык от того, что посуда бывает мытой и не битой, а постель свежей, что белье может лежать не на книжных полках и не на обеденном столе, а в шкафу. Ему и в голову не приходило требовать от Нинки того, что было ей совсем не свойственно, поэтому он сам заклеивал на зиму окна, время от времени стирал все, что скапливалось в ванной, покупал еду, которую не надо было готовить, и одежду, которую не надо было гладить, делал еще какие-то мелкие и простые дела, и это его в общем-то не угнетало. Но от этих его действий в доме не становилось уютнее, и Георгия никогда не покидало чувство, что он приходит туда переночевать, потому что больше переночевать ему негде.
Ознакомительная версия.