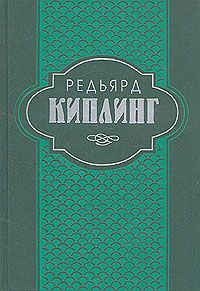— Как странно! Совсем как Джейма. Их обоих признали родственники лишь после смерти, — горько прошептала она.
— Ты не должна ни в чем себя винить, девочка моя. Джоко был болен. Он знал, что ему недолго осталось жить. Мне кажется, он убил себя, потому что боялся боли.
— Он был болен?!
— Да, Мара. У него был рак.
— Рак? Что вы такое говорите?
— Рак позвоночника. Неизлечимая болезнь. И в последнее время он чувствовал себя все хуже и хуже.
— Но он мне ничего не говорил…
— Он был слишком горд, ты же знаешь. Я сам узнал об этом случайно. — Он вновь склонился над ней и взял за руку. — Послушай, ты пережила ужасное потрясение. Не добавляй к своим мукам еще и чувство вины. Он все равно бы это сделал, он, видно, специально купил тот пистолет. История с акциями только подтолкнула его…
Мара никак не могла в это поверить, и все же, похоже, мистер Сэм прав. Как же она раньше об этом не подумала? Ей вспоминалось, как Джоко исхудал и постарел за последние месяцы. Значит, он покончил с собой, потому что боялся боли?
— О плате за лечение не беспокойся, — говорил мистер Сэм. — Цирк возьмет все на себя. В конце концов, я виноват, что…
— Я взрослая женщина, — перебила она его. — Я накупила много-много акций, потому что пожадничала. И вы здесь ни при чем и не должны себя винить.
— А ты не должна себя винить в том, что втравила в это дело Джоко. Он и без тебя обожал азартные игры.
Мара понимала, что он прав. Но почему она все равно чувствует себя так, точно убила лучшего друга? Она закрыла глаза, делая вид, что засыпает, и мистер Сэм ушел.
А вечером пришла Кланки. Она взяла Мару за руку и старалась говорить очень спокойно, но по ее красным глазам Мара поняла, что подруга плакала.
— Я уже давно пришла, но мистер Сэм хотел с тобой поговорить, а они сказали, что к тебе может войти только один человек. За Викки присматривает старшая дочка Мартини. От всех тебе привет. Там, в холле, очень много народу, но доктор не разрешает их впустить.
Она оглядела комнату, заставленную букетами цветов:
— Я буду приходить каждый день, рассказывать тебе о Викки.
— А я постараюсь как можно скорее вернуться к работе. Бланши я, наверное, еще долго не смогу делать, но надеюсь придумать какой-нибудь номер на арене.
Кланки кивнула и принялась рассказывать Маре о том, сколько у Викки появилось новых друзей среди гостиничного персонала.
Как только Кланки ушла, сестра внесла еще два букета цветов.
— Боюсь, в вашей палате скоро совсем не останется места, — весело сказала она. — Вот, держите, — она протянула Маре пачку открыток. — Там к вам рвется огромное количество гостей, но доктор Тоуп непреклонен: только родственники и самые близкие друзья. А еще он просто на ушах стоит от журналистов! Вы уже прочли открытки?
— Нет, я лучше потом. Скажите, а когда мне разбинтуют лицо?
Сестра сделала вид, что не слышит вопроса. Она хлопотала, подливая свежую воду в цветы, поправляя Маре подушки и одеяло, спрашивала, какой букет лучше поставить на тумбочку у кровати. «Она не хочет мне врать и сказать правду тоже не хочет», — подумала Мара.
Правду ей на следующий день сказал доктор:
— Ваши травмы очень серьезны. Вы упали на левый бок, переломав кости руки и ноги. Кости, конечно, срастутся, но я боюсь, как бы не начался сепсис. Будьте готовы к тому, что вам придется еще очень долго пробыть в больнице. Что касается вашего лица… то оно несколько изменится. Но не бойтесь, в наши дни пластическая хирургия творит чудеса…
Он остановился, ожидая, какой будет реакция, но Мара молчала, и он продолжил:
— Вы сильная, здоровая молодая женщина. С помощью трости вы, безусловно, сможете ходить. Со временем — при условии правильного лечения — вы станете почти такой же, как и прежде. Вы не будете выглядеть калекой. Но я должен сказать вам прямо: нет никакой надежды на то, что вы сможете продолжать работать в цирке. Я говорю это вам откровенно потому, что вы мне кажетесь человеком, для которого горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Ведь так?
С Марой не случилось истерики, она не расплакалась, но и на этот вопрос она не ответила. Она лежала неподвижно, точно мертвая, углубившись в свои мрачные мысли. Ее отчаяние было столь велико, что она уже начала сожалеть, что Лобо спас ей жизнь.
Ночью, долгой ночью, когда она лежала одна в темной палате, ей стало казаться, что она умерла и попала в ад.
Никогда больше она не выйдет на арену, никогда не услышит аплодисменты зрителей, никогда не пошлет им с плеча Лобо воздушный поцелуй… ни один журналист не придет к ней больше за интервью… Вновь стать никем — да, это и впрямь значило попасть в ад.
И все же самое ужасное то, что она разрушила жизнь собственной дочери: теперь Викки придется провести детство, а может быть, и всю жизнь в нищете. Как могла она в свое время так легко лишить Викки того, что принадлежит ей по праву?
А что, если доктор ошибся? Что, если травмы все же не настолько опасны, а лицо ее не так уж сильно пострадало? Она многое переборола в жизни, переборет и это…
Но через три дня, когда с ее лица сняли бинты, Мара поняла, что, к несчастью, врачи оказались правы. Из зеркала на нее смотрело… нет, вовсе не уродливое, но совершенно чужое лицо. А шрам, слишком глубокий, чтобы когда-либо зажить, пересекал его от лба до подбородка. «Нет, это не я!» — с ужасом подумала Мара.
Пришел доктор, вновь завел с ней разговор о пластической хирургии, о том, какие чудеса может совершать медицина, о замечательной операции, сделанной Фанни Хурст, о которой писали в газетах. Еще он говорил о том, что пока человек жив, жизнь не кончена, нужно бороться… Мара слушала его и не возражала. Она понимала, что это всего лишь слова врача, пытающегося утешить пациентку.
Оставшись одна, она о многом передумала. Она размышляла о будущем, в котором у нее уже не будет ни уважения, ни славы, и будет, наверное, совсем мало денег. Она представляла себя одной из тех несчастных циркачек, которые слишком любили цирк, чтобы уйти оттуда после тяжелой травмы, и соглашались на любую работу: разносить сладости, продавать билеты… Их не любили артисты — эти люди каждый раз напоминали им, что и они не вечны, и с ними может случиться то же самое.
Но что же делать с Викки? Какую жизнь она, Мара, безграмотная, не знающая и не умеющая ничего, кроме своей гимнастики и танцев, может предложить единственной дочери? Какое сможет дать ей образование?
Мара не спала всю ночь — даже таблетка снотворного не помогала, — а утром попросила сестру позвонить в Бостон мистеру Эрлу Сен-Клеру и попросить его как можно скорее приехать к ней побеседовать о судьбе его внучки.