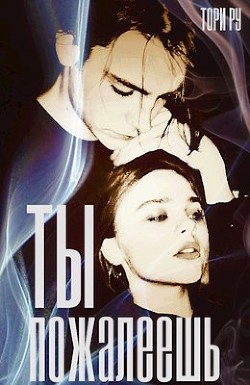Сразу видно, чем ее можно зацепить, а чем раздавить.
Стоило лишь мимоходом бросить, что мать ее хвалила, и эта дура рассыпалась бисером. Я ей подыгрывал. Это несложно, даже забавно. А теперь, когда Даша знала, стало ещё забавнее. Настоящее представление, жаль только, что она засела в туалете. Я хотел посмотреть, как она будет юлить и притворяться при матери. Каково ей будет видеть, что её мать из кожи вон лезет, чтобы угодить мне, тому, кто может в два счета опустить ее на самое дно. Я хотел, чтобы она наблюдала за нашей милой беседой, не имея возможности ничего сказать. Чтобы она сполна прочувствовала унижение и свою беспомощность.
– Даша там в порядке? – спросил я.
Её мать, как дрессированная собачка, тут же кинулась тарабанить в дверь туалета: «Даша! Выходи!».
Даша выползла из своего убежища, посмотрела на меня с лютой ненавистью. И лишь когда уходил, когда напомнил, что у нее есть время подумать до завтрашнего дня, наконец увидел уже знакомое выражение страха и отчаяния. Взгляд загнанного зверька.
Матери своей она не расскажет – это ясно. И вообще никому не расскажет. Ночь у нее предстоит бессонная. Она будет рыдать тайком, скорее всего, напишет что-нибудь слёзное и пафосное мне, какое-нибудь «прости» Андрею, но завтра сделает всё, как надо. И будет себя ненавидеть и презирать еще очень долго. Ну а если я ей скажу потом, что на самом деле нет у меня никакого видео с ее матерью, нет и никогда не было… Просто обычная картинка из интернета с девкой, чем-то похожей на ее мать в молодости. По крайней мере на те фотографии, которые они мне как-то показывали. Там даже лица не видно под волосами, но Даша и не разглядывала, поверила сразу.
В кармане пиликнул сотовый. Какая же она предсказуемая. Я еще до дома не дошел, а она уже взялась строчить сообщения.
«Ярик, зачем ты так? Одумайся! Ты же не такой!»
«До завтра», – набрал я ей в ответ.
* * *
У дверей скребся Джесс, стучал по полу тяжелым хвостом. Чувствовал, что я возвращаюсь. Мать сидела в своей комнате, и оттуда не доносилось ни звука, ни шороха. Можно было бы решить, что она уже спит, так тихо у нее было, но под плотно закрытой дверью желтела узкая полоска света.
Я вошел к ней.
Она сидела на диване с книгой и, разумеется, меня услышала, но не пошелохнулась. Продолжала читать, как будто меня не замечает. Но я-то видел, как она тотчас напряглась.
– Мне нужны деньги.
С минуту она еще делала вид, что читает, но я не уходил и просьбу свою не повторял, потому что знал – всё она прекрасно слышала.
– Зачем? – наконец отозвалась и отложила книгу.
Теперь моя очередь молчать.
– Сколько? – она поднялась, взяла сумку, вынула кошелек.
– Две тысячи.
Она достала две купюры, не глядя на меня, положила на диван и снова взялась за книгу. Больше никаких вопросов. Нет, это не потому, что она такая покладистая, щедрая и добрая. Просто ей неинтересно. Две тысячи для нее слишком мелкая сумма, ну а мои дела ее никогда не волновали.
До семи лет я её вообще почти не видел. У нее была своя личная жизнь, а меня она сбагрила на бабушку Зину, свою мать, с которой они тоже не особо ладили.
Бабушка мне и рассказала, что мать в молодости, еще аспиранткой, безумно любила какого-то мужика, то ли доцента, то ли профессора, но он её «поматросил и бросил», отказался бросать жену ради матери. Тогда мать вышла замуж за моего отца, назло тому мужику. Он тоже преподавал в том же институте математику. Отец был коренной москвич, жил со своей матерью в коммуналке. С ней я иногда до сих пор встречаюсь, езжу время от времени. В конце концов, я – ее единственный внук и наследник. Хоть комната в коммуналке не бог весть какое наследство, но лишней не будет.
Бабушка Зина называла моего отца рохлей, бесхребетным существом, которого мать окончательно растоптала. Потому что не любила, да вообще еле терпела. Жалея о замужестве, она винила в этом отца и, не стесняясь, ему изменяла. Он начал пить, они развелись. Вот и вся история.
Отца мне не жалко, он и правда оказался слабаком. И до меня ему тоже не было дела. Он пил, пока совсем не спился и не умер. А был он, говорила бабушка, «страшно умный, но не практичный».
Потом умерла и бабушка Зина, и матери пришлось взять меня к себе. Я сначала ужасно радовался. С бабушкой жизнь была не сахар. Суровая и вспыльчивая она чуть что лупила меня зверски, как когда-то била и мою мать.
Однажды чуть не покалечила меня, пятилетнего. Как-то проснулся с острой болью в мошонке, жаловался, плакал, а она подумала, что это я сам виноват. Решила тут же преподать урок – заставила вытянуть руки на столешнице и терпеть, пока она хлестала прутом. И только когда пошел отек, повезла в больницу. Оказалось, перекрут гидатиды. Меня экстренно прооперировали. А бабушка… она даже не извинилась.
Но она хотя бы заботилась, разговаривала со мной, как с живым человеком. Мать же меня практически не трогала. Только один раз ударила по щеке, когда я зашел в ее комнату, где она была не одна. В комнате стоял полумрак из-за плотно задернутых портьер, и я не сразу понял, что за возня на диване. Стоял, вглядывался. Потом услышал злое шипение:
– Выйди.
Я выскочил, испугавшись, скорее, ее тона. А через минуту вышла и она сама, запахиваясь в халат. Без слов влепила мне пощечину. А позже сказала:
– Еще раз сунешь свой нос в мою комнату, отправишься в детдом.
Ну в те годы я еще верил во все подобное и боялся угроз, смешно. Хотя не очень-то и смешно.