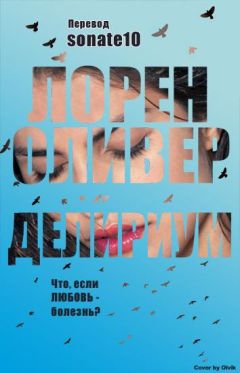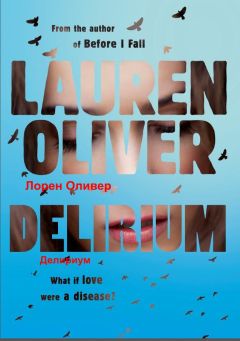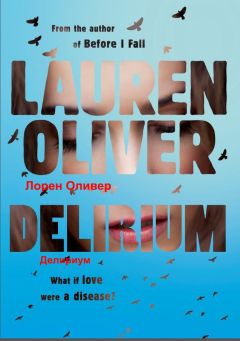— Воздух, — с усилием выталкиваю я слова, — воздух здесь тяжёлый...
Фрэнк снова ржёт, вернее, отвратительно кудахчет:
— Ах, барышне здесь нехорошо? Да это рай по сравнению с тем, что там, в клетках!
Господи, похоже, он получает удовольствие! Вспоминаю о споре между мной и Алексом несколько недель назад. Он тогда полностью разнёс целесообразность Исцеления. Я сказала, что без любви не может быть и ненависти, а где нет ненависти, нет насилия. А он ответил: «Ненависть — не самая опасная вещь, Лина. Равнодушие — вот что страшно».
Вновь звучит голос Алекса — по-прежнему беспечный, но теперь в нём слышны нотки настойчивости. Так обычно разговаривают уличные лоточники, пытающиеся навязать тебе упаковку давленой клубники или поломанную игрушку: «О-кей, ладно, давай договоримся, нет проблем, какая твоя цена?»
— Слушай, Фрэнк, — говорит Алекс, — впусти нас на одну минуту. Всего одну — этого достаточно. Ты же видишь — она уже напугана до чёртиков. Меня обязали притащить её аж сюда, а у меня выходной, понимаешь, собирался на причал, рыбку поудить. Понимаешь, если я приведу её домой, а она не прониклась как следует... ну, меня по головке не погладят, и придётся опять тащить её сюда. А у меня всего-то пара выходных осталась, лето на исходе, понимаешь...
— А с чего это вдруг такие церемонии? — Фрэнк кивает в мою сторону. — Если она возбухает, то есть лёгкий способ поставить её на место.
Алекс жёстко усмехается.
— Её отец — Стивен Джонс, начальник лабораторий. Он не хочет проводить досрочную Процедуру. Шума опасается, хочет, чтобы всё по-мирному. Реноме, понимаешь, пострадает.
Дерзкое, рискованное враньё. Фрэнк ведь может потребовать моё удостоверение личности, и тогда мы оба погорели. Я не в курсе, какое наказание предусмотрено за попытку проникнуть в Склепы на ложном основании, но уверена: ничего хорошего ожидать не приходится.
Впервые за всё время разговора Фрэнк проявляет ко мне интерес. Меряет меня с ног до головы взглядом, как будто здесь супермаркет, а я грейпфрут, и он оценивает, брать меня или не брать. На секунду повисает тишина.
Наконец охранник встаёт, закидывает автомат за плечо.
— Пошли, — цедит он. — Пять минут.
Пока он возится с кнопками на панельке — солидная процедура, нужно не только код ввести, но и просканировать отпечатки пальцев на специальном экранчике — Алекс берёт меня за локоть.
— Пошли! — деланно грубым голосом рявкает он, как будто мой припадок удушья действует ему на нервы. Но его прикосновение нежно, а рука — тёплая и надёжная. Как бы мне хотелось, чтобы она так и осталась на моём локте, но через секунду Алекс отдёргивает руку. В его глазах я ясно читаю мольбу: «Будь сильной. Мы почти на месте. Соберись с духом, осталось совсем немного».
Замок на двери щёлкает. Фрэнк напирает плечом на дверь, поднатуживается и приоткрывает узкую щель, в которую едва-едва можно протиснуться. Алекс идёт первым, за ним я, последним — Фрэнк. Коридор, куда мы попадаем, — такой тесный, что приходится идти гуськом. Тут ещё темнее, чем во всей остальной тюрьме.
Но что поражает меня наповал — так это запах. Ужасающая, едкая вонь разложения, как от тех мусорных контейнеров, что в гавани, в самый жаркий день: туда сваливают рыбьи внутренности, после того, как разделают пойманную рыбу. Даже Алекс прикрывает нос рукой, чертыхается и кашляет.
Позади меня лыбится Фрэнк:
— У Шестого отделения свой фирменный парфюм!
Мы шагаем; ствол автомата хлопает Фрэнка по бедру. Боюсь — мне сейчас станет плохо, и вытягиваю руку — опереться о стену. Лучше бы я этого не делала: стены покрыты слизью и каким-то грибком. По обеим сторонам прохода на равном расстоянии друг от друга расположены двери. Каждая снабжена грязным оконцем размером с тарелку. Сквозь стены до наших ушей доносится непрерывный стон, отчего сами стены постоянно вибрируют. Это даже хуже, чем вопли и крики в других отделениях. Так стонут люди, которые давно потеряли надежду на то, что их кто-то слушает. Они стонут, не отдавая себе в этом отчёта, просто пытаясь хоть чем-то заполнить время, пространство и тьму.
Меня подташнивает. Алекс прав — моя мать здесь, за одной из этих ужасных дверей; так близко, что если б мне была дана такая власть, я бы порвала межатомные связи, сделала бы камень мягким, как масло, просунула бы сквозь него руку и прикоснулась к ней. А ведь я никогда даже мысли не допускала, что когда-либо снова почувствую мамину близость.
Во мне борются противоречивые желания и надежды: «Мама не может быть здесь... Лучше бы она умерла... Я хочу увидеть её снова — живую...» А ещё в мозгу непрестанно бьётся ещё одно слово, пронизывает собой все мои мысли: «побег», «побег», «побег»... Нет, это слишком несбыточно, чтобы на это рассчитывать. Если бы моя мать вырвалась отсюда, я бы об этом знала. Она пришла бы за мной.
Отделение №6 — всего лишь один длинный коридор. По моим прикидкам, здесь около сорока дверей, сорока одиночных камер.
— Вот и всё, — объявляет Фрэнк. — Гран тур! — Он бухает кулаком в самую первую дверь: — А здесь твой приятель Томас. Хочешь с ним поздороваться? — и снова разражается своим гадостным квохчущим смехом.
Я вспоминаю, как он сказал тогда, в начале разговора в караулке: «Он теперь всегда здесь».
Алекс не отзывается, но, мне кажется, его передёргивает.
Фрэнк грубо толкает меня в спину стволом своего автомата:
— Ну, как те это нравится, а?
— Ужасно.
Это слово я не произношу, а выхаркиваю — такое впечатление, что в моём горле застрял моток колючей проволоки. Фрэнк доволен.
— Лучше слушай, что тебе говорят, и не вякай, — внушает он. — Не то кончишь, как этот засранец.
Мы останавливаемся напротив одной из клеток. Фрэнк кивает мне на замызганное оконце. Я делаю нерешительный шаг вперёд и приникаю к стеклу. Оно такое грязное, что через него трудно что-либо разглядеть, однако я прищуриваюсь и вглядываюсь в темень камеры. Различаю какие-то предметы: вот вроде бы топчан с тонюсеньким, истрёпанным тюфяком; вон там унитаз; рядом — ведро, явно человеческий эквивалент собачьей миски для воды. В углу громоздится куча старого, загаженного тряпья. Но тут я соображаю, что это вовсе не куча, это тот самый «засранец», про которого говорил Фрэнк: грязный, скрюченный в три погибели живой скелет, обтянутый кожей и обмотанный тряпьём, с метлой нечёсанных волос... Он недвижим. Его кожа так грязна, что сливается в цвете с камнем стен. Если бы не глаза, постоянно бегающие влево-вправо, как будто он следит за полётом каких-то летучих тварей, ты бы никогда не догадался, что это живое существо. Ты не разобрал бы даже, что это человек.