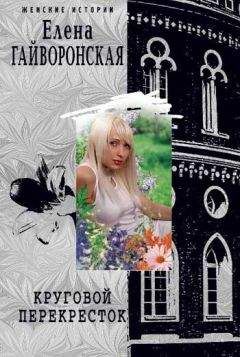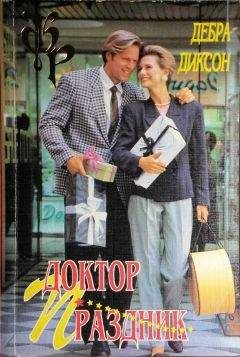Ознакомительная версия.
В любой другой момент я бы ощетинилась, стала браниться в ответ, но на сей раз Сережка был вправе и кричать, и размахивать руками, потому что я вела себя как легкомысленная девчонка, безмозглая эгоистка.
– Не кричи, – оправдывалась я, – я же не думала, что такое произойдет. Я только хотела посмотреть…
И заревела, ощутив запоздалый страх и вину за собственное легкомыслие. Беременность вообще сделала меня до неприличия сентиментальной – я могла расплакаться над какой-нибудь трогательной сценой в книге или фильме, чего прежде не наблюдалось.
При виде моих слез Сережка тотчас сник, перестал ругаться, сел рядом со мной, обнял и стал утешать.
– Ну, не плачь, пожалуйста, прости меня… Просто я очень тебя люблю… Мне вдруг стало так страшно… Я не представляю, как буду жить, если с тобой что-то случится. Даже не хочу об этом думать!
И я твердо пообещала, что впредь все революции в мире обойдутся без моего участия.
Спустя три дня все закончилось. Путч провалился. Его идеологов на какое-то время заперли в СИЗО Матросская Тишина, в Сокольниках, неподалеку от нашего дома. Глухая улочка моментально стала знаменитой, запестрела флагами и лозунговыми перетяжками, засверкала вспышками фотокамер, зазвучала рупорами митингующих сторонников и противников опальных политиков. Постепенно страсти улеглись, пленников отпустили восвояси. Президент вернулся к власти. Шок от боевых действий, развернувшихся в центре столицы, постепенно развеялся. Все старались делать вид, что ничего особенного не происходит, напротив, все изменения – к лучшему и приближают светлое будущее. Постепенно поверили, что так оно и есть на самом деле. Вроде все успокоилось, пошло по-прежнему, но то было обманчивое затишье – перед бурей. Безжалостной и беспощадной бурей девяностых…
Сыпал мокрый снег. Автобус брали штурмом. Под драповым свингером моего пуза заметно не было, а значит, на снисходительность толпы рассчитывать не приходилось. Я плюнула, решила не рисковать и поехать ко второй паре, когда схлынет спешащий к началу рабочего дня народ, а высвободившееся время скоротать в продовольственном – в утренние часы там бывало относительно малолюдно, и шансы удачной охоты возрастали.
Неладное я заподозрила еще на подходе: на лицах вылезавших из магазина бабушек с авоськами читались изумление, растерянность, отчаяние, злость, а у дедка в заплатанном френче и ушанке набекрень – вся гамма чувств разом. Дедок тоскливо сплюнул, нашарил в кармане «Беломор» и обронил в неизвестность:
– Ну, все, дождались изобилия, мать вашу. Теперь и подыхать можно.
Движимая любопытством и терзаемая смутными предчувствиями, я прибавила шаг и оказалась в торговом зале. По нему, точно по выставке, бесцельно слонялись люди, ничего не покупали, шарили глазами по витринам и переговаривались отчего-то шепотом. Я взглянула на витрину и едва не выронила сумку. То, что я увидела, относилось к области фантастики. Прилавки были заполнены товаром – пусть не первой свежести, притомившимся на складе в ожидании своего часа, но реальным, существующим и… безо всякой очереди. Заветренная темно-красная говядина, изможденные куры, жирная свинина, замороженная треска, ноздреватые сыры в мелкие и крупные дырки, колбаса трех видов, сосиски, молоко разной жирности в синих и зеленых пакетах… Я поморгала и помотала головой, ожидая, что мираж рассеется, но все осталось по-прежнему. Продавщицы, тетки средних лет в замызганных халатах, ошарашенные покупатели, толстая полосатая кошка, облизывающаяся в углу с удивленно-растерянным выражением на усатой мордочке.
Я очутилась у прилавка и сразу поняла причину невероятного изобилия и отсутствия людского ажиотажа. Момент истины заключался в ценнике, наспех переписанном корявым почерком. Говядина вместо вчерашних рубля пятидесяти за кило стоила семь двадцать. Кости с обрезками жил, носившие гордое название «кости бульонные», на деле служившие дешевой пищей для собак по пятьдесят копеек за килограмм, нынче предлагались по три пятьдесят. Рыба, сыр, колбаса, сосиски, молоко – все подорожало в пять-семь раз за одну ночь. В моем кошельке было двадцать пять рублей, которых должно было хватить на продукты на неделю плюс пять обедов в студенческой столовке, пара поездок на такси, покупка литературных новинок и последнего номера «Бурда», а также необходимых любой женщине мелочей от колготок до помады и лака для ногтей модного в новом сезоне оттенка… Я тупо таращилась на ценники и понимала, что моих двадцати пяти рублей мало на что хватит.
Предвосхитив мои мысли, какая-то женщина в розовом пуховике, из которого кое-где торчали перья, и мохнатом фиолетовом капоре истерически закричала продавщице:
– Вы что, спятили – такие цены заломить?!
– А мы-то тут при чем?! – в тон ей отозвалась продавщица. – Мы что, сами цены придумываем? Мы люди маленькие, что нам велели, то и пишем!
– Кто велел? – не унималась женщина в капоре. – Директор?
– Выше берите, – устало процедила сквозь зубы продавщица, которую с сегодняшнего открытия магазина, похоже, допросили не один десяток раз, и предчувствовавшая, что до окончания работы ей придется выслушать еще бог весть сколько вопросов, истерик, проклятий…
– А зарплату-то, зарплату-то прибавят?
– Понятия не имею. Может, прибавят, может, нет… – пожала плечами продавщица. – Нам намедни сказали, кто будет недоволен – уволят по статье. И куда потом?
– А жить-то как? – тоскливо осведомилась женщина в капоре.
Продавщицы потупились и ничего не ответили.
Я почувствовала, как все внутри похолодело и задрожало.
«Спокойно, – мысленно приказала себе, – прорвемся. Это какое-то недоразумение. Если цены подняли, значит, и зарплату прибавят. Как же иначе?»
– Девушка, – доверительно шепнул какой-то пенсионер, – в универсаме на соседней улице еще по старым ценам торгуют. Правда, там очередь…
Очередь… Какое сладкое слово!
Я забила на вторую пару и лекцию по педагогике и рванула на соседнюю улицу.
Следующие две недели прошли под девизом: «Купи по старой цене!» Город сошел с ума. Казалось, никто не работал, не учился, не отдыхал: все только и делали, что с утра до ночи рыскали по магазинам в поисках распродаж. Я добросовестно приезжала в альма-матер, но, поддавшись общему ажиотажу, уносилась с лекции в галантерейку, где выбросили дешевые колготки или симпатичные ситцевые халатики, две штуки в руки. Я не носила ситцевых халатиков, но покупала: дают – надо брать. Если не понадобятся, продам кому-нибудь дороже. Староста группы Ирка приволокла шикарные итальянские сапоги: покуда Ирка стояла в очереди, ее тридцать девятый размер закончился, остался тридцать седьмой, но Ирка все равно купила, не зря же тратила время. И теперь продавала с надбавкой в червонец – компенсацией за труды. Сапоги моментально нашли новую хозяйку. Это было всеобщее безумие, все знали, что рано или поздно оно должно завершиться – с окончанием товаров по старым ценам либо денежных знаков у населения. Но об этом предпочитали не думать. Магазины, переписавшие ценники на новые, поражали «несоветским» изобилием, отсутствием толчеи и, как следствие, чистотой, тишиной и даже некоторой величественностью. Продавцы маялись, лишившись привычного ощущения собственной значимости: никто больше не подмигивал заговорщицки, не упрашивал поискать под прилавком или на складе завалявшийся кусочек, не совал рубли сверху… С окончанием эпохи дефицита торговля лишилась своего могущества, достигшего в последние годы апогея. Власть распределения закончилась, настало время полной безоговорочной власти денег.
Ознакомительная версия.