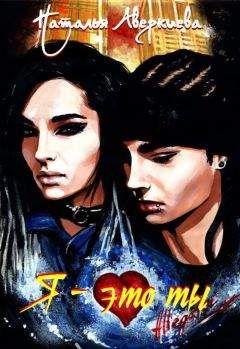Мэнникс протягивает ему полотенце, и он молча принимает его. Люциан вытирает лицо насухо и молча рассматривает меня, его прищуренный взгляд останавливается на моих мокрых после душа волосах. При воспоминании о его безжалостных руках, сжимающих мои волосы, меня охватывает жар, и я сжимаю руку в кулак, пряча от его взгляда палец, с которого я сняла кольцо.
Затем он спрашивает.
— Где платье, которое я выбрал для тебя? — Я держу голову высоко поднятой, несмотря на злобную угрозу отступить.
— Это не мое платье. Оно мне не нужно. И вообще. — Он накидывает полотенце себе на шею, держась за его концы, а его взгляд всепоглощающе блуждает по мне. В нем кипит ненависть, но есть и еще какая-то эмоция, которую я не могу определить.
— Ты права, — говорит он. — Все принадлежит мне. Платье принадлежит мне. Одежда, которая сейчас на тебе. — Он придвигается ближе, тепло его тела вторгается в мое пространство. — Мне принадлежишь даже ты, Кайлин, и ты будешь делать то, что я скажу.
Под его ядовитыми словами скрывается намек на ирландский акцент, поскольку он переходит на свой родной язык. Я понятия не имею, как он меня называет, но уверена, что это неприятно. Оправданный гнев, с которым я вошла в эту комнату, погас под его огнем. Желание сбежать пронзает все мое тело, предупреждение вспыхивает на коже, но я стою на своем.
Мне нечего терять.
— Ты не можешь держать меня здесь в плену, — говорю я, — это средневековье. Просто… Ты не можешь.
— Ты не пленница. Ты можешь уйти, когда захочешь. — Я наклоняю голову, в замешательстве сводя брови вместе. — Я не понимаю.
Голубые глаза вспыхивают озорством.
— Ты можешь уйти, но тогда твой отец лишится жизни, — Я сердито киваю.
— Тогда я точно так же останусь пленницей. — Он равнодушно пожимает плечами. Хотя я знаю, что он приложил немало усилий, чтобы доставить меня сюда и манипулировать моим отцом, так что позиция «тот, кто меньше всех заботится» — жалкий фарс.
— Называй это как хочешь, — говорит он, — это всего лишь договоренность, не более того. — Его взгляд скользит по моему телу, посылая тепло по натянутой коже. — Дело простое. У тебя есть выбор. Возможно, он будет нелегким, но у нас всегда есть выбор. Уйти, вернуться в семью и оставить позор отца на произвол судьбы. Или соблюдать брачный контракт и спасти последнего живого члена своей ближайшей семьи.
В памяти всплывает воспоминание о том, как мой дядя ломал пальцы Фабиану за его безобидную страсть. Могу только представить, что бы он сделал с моим отцом за то, что тот его обокрал. Доном преступной семьи становятся не из-за сострадания.
Мой отец — единственная семья, которая у меня осталась, а этот монстр использует мою совесть против меня.
— Я должна защитить его. — Его глаза проникают в мои.
— Он должен защищать тебя. — Я выдерживаю его пристальный взгляд, пока не вынуждена моргнуть и отвести глаза.
— Мне нужен мой телефон, — говорю я, ненавидя дрожание в своем голосе. — Мои вещи. У меня занятия по танцам. Я не могу просто… исчезнуть. У меня есть жизнь…
— Была, — перебивает он. — Теперь твоя жизнь принадлежит мне, и телефон тебе ни к чему. — Его взгляд падает на низкий вырез моей футболки. Его глаза, кажется, задерживаются на порезах от шипов, его дьявольском подарке мне, и что-то опасное вспыхивает в его глазах. — Тебе лучше уйти.
В его тоне звучит тревога, его слова — не требование, а предупреждение.
Я поджимаю губы в поисках ответа. Чем дольше мы остаемся запертыми в этой битве воли, тем сильнее его жар охватывает мое тело, а его пристальный взгляд сдирает кожу с моих костей.
Я никогда не сталкивалась с такой яростью. Я жила и выживала в темном мире, с которым многие никогда не сталкиваются, и все же это первый раз, когда меня коснулась чистая, без примесей ненависть.
Этот человек презирает меня.
На глаза наворачиваются слезы, и от этого я прихожу в ярость.
— К черту телефон, — говорю я, приближаясь к нему так близко, что его голую грудь отделяет от контура моих грудей лишь малая толика воздуха.
В его глазах мелькает искра веселья от моей дерзости. Он вытирает рот рукой.
— Предметы, без которых я могу прожить, — говорю я. — Даже если я увижу свою семью… — я ненавижу правду в своих словах, — но я танцовщица. Я должна танцевать. Я слишком много работала, чтобы меня приняли в балетную труппу. Это моя жизнь. Я должна посещать занятия и спектакли.
Я показываю руку, обнажая свою окончательную слабость и уязвимость, рискуя, что он сжалится надо мной. Он украл девушку и запер ее в башне, как в какой-то грязной сказке. Он должен увидеть причину.
Глубокий вдох вызывает трение между его грудью и моей рубашкой, и мое тело вздрагивает от навязчивой близости. Я начинаю отступать, но его рука обхватывает мой бицепс, не давая мне вырваться.
— Ты страстно любишь танцевать. — Я сглатываю.
— Да. — Кончики его пальцев впиваются в мою кожу, и без разрешения я опускаю взгляд на его грудь. Шрам глубокий и неровный, и я знаю, что это было больно. Вода из бассейна стекает по грубой, скошенной коже.
Он отпускает меня быстро, резко, словно не осознавая, что прикоснулся ко мне, словно случайно задел раскаленную конфорку плиты, и сила этого толчка отбрасывает меня назад.
— Тогда ты будешь танцевать здесь, — говорит он, снова берясь за полотенце. — Ты будешь танцевать для меня. — Я открываю рот, чтобы возразить, но он сдергивает полотенце со своих плеч движением, призванным продемонстрировать его иссякающее терпение и окончательность разговора.
Танцевать здесь. Для него. Как какая-то содержанка, жена мафиози с глупым хобби.
Оскорбление бесит меня почти так же сильно, как то, что я вынуждена жить под его крышей, и мои следующие слова просто вылетают наружу.
— Не знаю, что ты думаешь от меня получить, но меня никто ни к чему не принудит. — По мере того как они вылетают из моего рта, я понимаю, какой вывод напрашивается из моих слов — то, о чем я до сих пор даже не задумывалась.
Консумация брака.
Одна из его бровей выгнулась дугой, вызвав бурный прилив жара на моей коже.
— Ты должна быть благодарна за то, что я вообще терплю твой интерес, — говорит он. — Это больше, чем ты стоишь.
Ногти впиваются мне в ладони, так крепко я сжимаю кулаки.
— Это не просто интерес…
— Больше обсуждать нечего. — На его черты опускается непроницаемая маска. — Убирайся, — приказывает он.
Когда он поворачивается и идет к скамейке, на которой лежит его сложенный костюм и ботинки, я чувствую, как первая горячая слеза вырывается на свободу. Я провожу рукой по щеке. Ужасный звук вырывается из моего горла и эхом отдается по бетону.
Спина Люциана напрягается.
— Уходи, пока я не объяснил тебе причину твоих слез.
— Значит, ты хочешь меня пытать, — пролепетала я, уже не заботясь о своем благополучии, когда вся надежда вернуться к жизни потеряна.
Он крепче сжимает полотенце, и мышцы его спины напрягаются от его движений. Он медленно поворачивается и смотрит мне в лицо, шрамы и устрашающие тату, в голубом пламени его глаз — жестокая злоба. В его взгляде мелькает что-то дикое и неприрученное, а губы кривит жестокая усмешка.
— Только избалованные принцессы считают, что такая мелочность — это пытка. — Он бросает полотенце на скамейку и хватает свою черную рубашку. — Ты родилась в этом мире. Твоей судьбой всегда было стать женой по контракту. Радуйся, что она досталась мужчине, который не собирается относиться к тебе как к таковой. — Он просовывает руку в рукав, произнося вслух и подтверждая то, что я постеснялась сказать о консумации. — Иначе другой мужчина может наказать эту умницу и показать, что такое настоящая пытка. — Я облизываю губы, во рту пересохло, а в горле першит.
— Я не принцесса, и не я причиняла боль твоей семье. — Я жалею об этих словах, как только они покидают мой рот, но уже слишком поздно.
Он застегивает одну пуговицу на рубашке и направляется ко мне — сила человека и бури. Взяв мою челюсть в свою мозолистую хватку, он прижимает меня к месту.