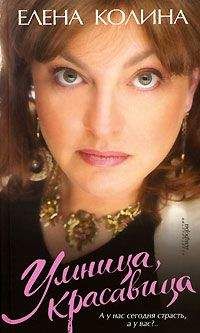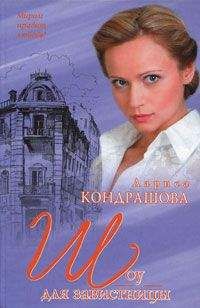В военкомате все произошло очень быстро, почти мгновенно, как будто его ждали. Тут же, при нем, связались с госпиталем. Должности «челюстно-лицевой хирург» в госпитале не было, не потому, что «челюстник», как говорил отец, был не нужен, а потому, что не было человека. Но вот он, человек, – сидит в военкомате, ждет. Должность для него сделали почти что мгновенно – он был нужен.
Так что из военкомата Князев вышел не военным хирургом, конечно, – вновь стать военным невозможно, но и не совсем гражданским. В контракте Князев А. А. назывался «служащий Российской армии».
В Ханкале Соня нечасто появлялась в его мыслях. Он не то чтобы не скучал, не тосковал о ней, просто некогда было, и она все удалялась и удалялась от него, пока совсем не слилась с питерским дождем, с Чистыми прудами, с прошлым. Но глубоко в подсознании жила странная мысль: все-таки все вышло ИЗ-ЗА ЛЮБВИ, и он здесь, в Ханкале, ИЗ-ЗА ЛЮБВИ.
Князев не говорил себе, что еще чуть-чуть, и его любовь закружилась бы в синих московских метелях, затерялась бы в питерском тумане, утонула бы в усталых Сониных глазах, в покупке мебели и кастрюль в пустую квартиру в Гусятниковом переулке. Он не говорил себе, что единственной возможностью сохранить в себе любовь было признать, что жизнь больше любви. Он вообще никогда не говорил себе ничего сложнее, чем «хочу» и «надо», и никогда ничего для себя не формулировал, но ведь, в отличие от Головина, ему и НЕ НУЖНО было формулировать.
И Князев никогда, ни разу не спросил себя, не разлюбил ли он Соню? Он не разлюбил, невозможно было ее разлюбить, сколько будет жить, не разлюбит.
НОВОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАЛИ
Почему-то события, завершающие какую-то жизненную полосу, в самом конце спутываются странно и бестолково…
Стафилококк, внутрибольничная инфекция. Стафилококк – это как смерч, как боевая тревога, как война. Мгновенно закрываются все отделения, кроме, конечно, родового, хотя кто-то в испуге даже пытается перестать рожать, второпях выписываются все, кто может уйти, а поневоле оставшиеся тоскливыми взглядами провожают уходящих. Потому что никому не хочется, чтобы его ребенок заболел еще до того, как родился.
По странной прихоти судьбы стафилококк в Снегиревке объявили утром первого апреля, в тот день, когда Князев вошел в кабинет главврача и тот, улыбнувшись на его слова о военкомате, спросил его: «С первым апреля?»
– С первым апреля? – улыбнулась Соня, когда медсестра, вместо того чтобы дать ей положенный утром градусник, сказала: «Давай, Анна Каренина, эвакуируйся скорее».– С первым апреля?
– Не-а, не с первым апреля, а стафилококк у нас. Закрываемся. А тебя все равно выписывают скоро…
Соня действительно почти поборола антитела, почти справилась с пиелонефритом, и – вот чудо – она перестала все ронять, все задевать, как будто прежде в ней была какая-то неровность, а теперь стала ровность. И ее уплывающий взгляд все чаще останавливался на разных конкретных вещах… Она собиралась домой – когда-нибудь.
Соня расцеловалась с девочками-медсестрами, вместе посмеялись – куда же ей идти, бедной Анне Карениной, разве что под поезд… Соня смеялась, говорила, что, даже живи она в девятнадцатом веке, она ни за что не кинулась бы под поезд. А уж в двадцать первом веке тем более, и не потому даже, что была беременна, она не сделала бы этого НИКОГДА.
Девочки-медсестры почти полюбили Соню, и это было странно – как правило, они не привязывались к пациенткам. Соня почти полюбила девочек, подолгу разговаривала с ними, и это было не менее странно – прежде она ни за что не заметила бы Танечку, и Маринку не заметила, и Катю, смотрела бы сквозь них уплывающим взглядом и думала о своем. Сейчас же, словно собственное страдание неожиданно размягчило ее, как брусок пластилина на солнце, Соня была особенно открыта страданию чужому. Танечка была упрямо и безнадежно влюблена, у Маринки тяжело болел отец, а Катя… это был секрет между ней и Катей.
– Бедная она… – сказала ей вслед Танечка, жалея Соню, а заодно и себя.
– Она не бедная, а богатая, – сказала Маринка, прикидывая, какие лекарства нужнее отцу, а без каких придется обойтись.
– Бедная, – сказала Катя, – вы сами подумайте, девочки, – ну вот куда ей сейчас идти?! Каренин даже не пришел к ней ни разу, а Вронский в Москве… Ведь это же ужас, девочки, просто тихий ужас!..
От Снегиревки до Таврической двадцать минут пешком, от Снегиревки до Московского вокзала тоже двадцать минут пешком. Одинаково идти до дома и до вокзала.
Все эти месяцы, проведенные в одиночестве, Соня с легкостью отгоняла от себя страшные мысли, словно в больнице она опять стала маленькой, словно была уверена, что о ней подумают другие… О ней и думали – измеряли температуру, ставили капельницу, давали таблетки. Сейчас, стоя на заснеженной улице у проходной Снегиревки, она вдруг увидела свое положение как будто впервые, и положение ее было ужасно.
Куда ей идти, на Таврическую? Но зачем ей быть на Таврической, пока Антоша в Хибинах? Ехать в Москву? Но зачем ей в Москву?.. Соня уже сама запуталась, не помнила, в какой точке отношений они с Князевым в последний раз расстались – в любви, в непонимании, в охлаждении?..
Сознание ее было слегка затуманено, как бывает у человека, долго не выходившего на улицу, и обычная городская жизнь вызывала настороженность, немного даже пугала, как будто она не вполне ясно понимала, что творится вокруг. Напротив проходной висел щит с надписью: «Новое качество печали». Соня прочитала и удивилась: что это, откуда они знают, что печаль имеет новое качество?.. Когда всмотрелась, оказалось: «Новое качество печати», реклама.
Соня постояла еще немного и пошла в сторону Таврической. Шагала бездумно, смотрела по сторонам, привыкала к городу.
Постояла у дома на Таврической, посмотрела в окна и поняла – невозможно. Невозможно, да и незачем, ВСЕ уже, все. В Москву.
В Москву?.. В Москву. На Московский вокзал.
Она не могла понять, почему на ее жест не останавливаются такси, шла к метро, время от времени поднимая руку, и, только взглянув на свое отражение в стеклянных дверях, догадалась, что выглядит в узкой Танечкиной куртке… ну, не как нищенка, конечно, но… как беременная, второпях сбежавшая от стафилококка. Но откуда же возьмутся в больнице ее шубы? В больнице у Сони не было шуб, ни норковых, ни из соболя.
Соня вышла из вагона на станции «Площадь Восстания», Московский вокзал, и тут же, на перроне, поняла, что ни в какую Москву она не поедет. Прошла к началу туннеля, прислонилась к стене, закрыла глаза.
– Вам плохо, девушка? – спросил кто-то.
– Мне хорошо, – не открывая глаз, сказала Соня. Анна Каренина бросилась под поезд, так ей показалось легче, чем мучиться и мучить всех… Но ведь жизнь больше любви, при чем же здесь поезд?..