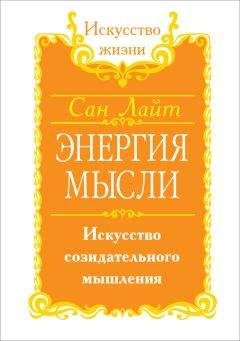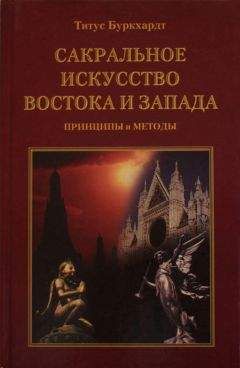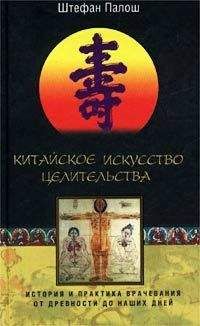Итак, предмет искусства Но – не социум и страждущая от него личность, а то, что извечно преследует непросветленного человека, подверженного страстям и суете. Социум – лишь частное выражение Пути, его теневая сторона, как и индивидуальная жизнь есть лишь временное проявление извечного «я». Поэтому и не возник в Японии жанр трагедии, тем более трагикомедии, чтобы не было трагического мироощущения, сосредоточенности на человеческом «я», привязанность к которому считается главным на пути к спасению. Но есть вера в извечное «я», в блаженство, к которому идет следующий Пути.
А трагикомедии быть не могло, потому что одно не смешивается с другим, чтобы не нарушить полноту, завершенность отдельного – высокого и низкого. Впрочем, примерно с XVI века пьесы Но перемежаются фарсовыми сценками кёгэн (букв. «безумные слова», «слова, вывернутые наизнанку»), которые призваны снять напряжение, рассмешить народным говором и юмором.
Сэами не раз напоминает, что лишь в состоянии самозабвения актер может раскрыться в полной мере. Самозабвение делает возможной полную самоотдачу, самовоссоздание в творческом акте себя подлинного, затаенного.
Этой цели подчинено все в театре Но, начиная от Красоты сокровенного – югэн – и кончая приемами игры на почти пустой сцене, олицетворяющей «пустотность», иллюзорность страждущего мира. От него избавляет искусство мономанэ (букв. «подражание вещам», но «подражание» – не греческий мимесис[251], а моно – более дух, чем вещь, или вселенские сущности, как физические, так и духовные, – душа вещей – мир невидимый, но проницаемый мастером). «Нечто выглядит подобным, но не выглядит правдивым», – говорит Сэами.
То же следование неизменному и изменчивому обусловило язык символа («понятие» как таковое не соответствует целостному мышлению, не разделяющему сущность и существование). Это культура подтекста, иносказания, намека (ёдзё – сверхчувства – или того, что позволяет пережить чувство в его полноте, вселенское чувство). Прямое определение лишает предмет очарования, а именно очарованность, чувство диковинности напоминает о присутствии божественного в земном.
Наконец, все должно быть овеяно ароматом сокровенной Красоты – Югэн (ю – «глубокий, туманный, трудно различимый»; гэн – «темный, глубокий, затаенный»). Югэн предстает как элегантность, грациозность, изящество, но за ними ощущается глубина таинственного, невидимого мира, приводящего душу в содрогание. Другими словами, красота – как истинная, изначальная красота – в японском мироощущении ассоциируется с тайнами Мироздания, с божественной реальностью. Ее воспринимают как мистическую красоту. Если аварэ – красота явленного, видимого мира, то югэн – это аварэ, умудренное опытом, прошедшее сквозь жестокость самурайских битв, рождает чувство непрочности сущего, отчего оно становится еще милее сердцу. Эта потаенная красота разлита повсюду, но лишь чуткое сердце способно увидеть излучаемый ею свет, свет изначально сущий.
Рис. 78. Андо Хиросигэ «Снег в Камбара»
Сэами постоянно говорил актерам: «Без Югэн нет Но». Ибо конечная цель Пути – Но: пробудить, преобразить человека, предназначенного к изначальной гармонии.
Не в этом ли причина увлеченности театром Но режиссерами и драматургами Запада, впрочем, не всегда осознаваемая? В 80-х годах XIX века. Европа была покорена японским искусством, начиная с гравюры укиё-э, которая, по признанию импрессионистов, изменила их взгляд на творчество, а потом и театром Но. По крайней мере, у Ж. Гонкура были основания говорить о триумфе «японизма». Известно, что театральному искусству японцев учились К. Станиславский, В. Мейерхольд, А. Таиров, Б. Брехт, Б. Бриттен. П. Гудман называл Но «драмой мудрости» и сам сочинял пьесы в стиле Но. Артур Уэйли, один из лучших знатоков Японии, в 1921 году издал книгу «Японские пьесы Но», утверждая, подобно Сэами, что «Но будет существовать вечно, что бы ни случилось с самим театром».
В наши дни наблюдается чуть ли не всеобщее увлечение японским театром. Дело в том, что, как утверждают специалисты, западная традиция, исходящая из греческого лона, исчерпала себя и нуждалась в обновлении[252]. Но почему не нуждалась в обновлении традиция театра Но? Не потому ли, что его искусство причастно Пути или Вечности? А именно о вечном начали размышлять режиссеры, ищущие выход из тупика, к которому приводит всякая замкнутость, зацикленность на посюстороннем. Обострилась потребность возврата к себе истинному, преодоления бездны, прерванной связи души с извечным Духом.
Рис. 79. Андо Хиросигэ «Переправа через реку Оигава»
В заключение еще раз отметим удивительную целостность японского искусства как неотъемлемой части своеобразной культуры Японии. Японское искусство давало пример того, что уже назрело в европейском сознании, и прежде всего – целостный взгляд, преодоление психологии «части», ибо «эго» и есть «часть», возомнившая себя целым. Поистине все Пути ведут к Одному (рис. 78, 79).
Бабочки полет: японские трехстишия / Пер. с яп. В. Н. Марковой. М., 1999.
Мацуо Басё. Избранная проза. СПб., 2000.
Дьяконова Е. М. Природа в поэзии // Синто – путь японских богов. Т. 1. СПб., 2002.
Григорьева Т. П. Синтоистская основа японской культуры // Синто – путь японских богов. Т. 1. СПб., 2002.
Григорьева Т. П. Синтоистские корни театра Но // Синто – путь японских богов. Т. 1. СПб., 2002.
Соколов-Ремизов С. Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии. Между прошлым и будущим. М.: УРСС, 2004.
Стэнли-Бейкер Джоан. Искусство Японии. М., 2002.
Глава 7. Искусство каллиграфии в дальневосточной традиции
Сущность каллиграфии как искусства
Дальневосточная каллиграфия – не просто система письма, это один из ведущих видов искусства, обладающий своим, глубинным смыслом. Восприятие каллиграфии требует определенного уровня интеллектуальной и духовной культуры; в каллиграфическом языке важен не только смысл написанного и то, как написано. В каллиграфии соединяются глубинный, внутренний смысл и визуальная символика. Дело в том, что китайские и японские иероглифы, помимо информационной функции, выполняют множество других задач. Опытный каллиграф несколькими движениями кисти может вызвать эмоциональный образ передаваемого предмета, передать свое мимолетное ощущение и даже особый «аромат» времени, легким намеком создать ассоциативную связь, подключающую каллиграфический текст к целой цепи разновременных параллелей.
Китайская иероглифическая письменность, сформировавшаяся более трех тысячелетий назад, оказала огромное влияние на письменность соседних стран. Искусство каллиграфии было привезено в Японию вместе с китайской письменностью в V веке н. э. Развитию японской живописи и каллиграфии способствовали контакты с континентом, откуда в начале VII века было заимствовано искусство изготовления красок, бумаги и туши.
В Японии каллиграфия (сёдо) считается одним из видов изящных искусств. Благоговейное отношение к каллиграфии в Японии, по сути, является, как полагают, отражением ее статуса в Китае.
Значительный вклад в эволюцию каллиграфии эпохи Хэйан, в осознание ее как эстетической категории внес монах Кукай (774–835). Он и его современники – император Сага (786–842) и придворный Татибана-но Хаямари (ум. 842) – запомнились следующим поколениям как Сампицу («Три кисти»).
В тот же период произошел переход от жесткого копирования китайских стилей каллиграфии к ее творческой ассимиляции и включению ее в японскую культуру.
Концепции каллиграфических стилей, как Китая, так и Японии, строились на представлении о том, что написанный текст должен доставлять эстетическое наслаждение. Красота – одна из важнейших составляющих каллиграфии как искусства. Именно красота во многом определила особый статус каллиграфии в системе видов искусств, обусловив появление своего рода культа каллиграфии.
Необходимо также отметить, что каллиграфия как искусство формировалась и развивалась на основе традиций, знание которых необходимо как мастеру, так и читателю-зрителю.
Стилистические изменения в каллиграфии от эпохи к эпохе были связаны главным образом с изменениями в композиции иероглифа. И китайские каллиграфы эпохи Хань, и танский каллиграф Оуян Сюнь, и сунский мастер Ми Фу, и юаньский Чжао Мэнфу – все они, стремясь к усовершенствованию классических стилей, прежде всего вносили новое в композицию.