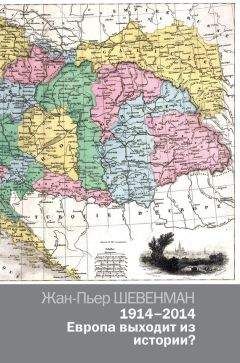Жан-Пьер Шевенман
1914–2014. Европа выходит из истории?
Здесь, в Европе, мы больше не можем общаться друг с другом на языке дипломатии. Нам следует, как и во внутренней политике, обсуждать любые проблемы без обиняков и точно так же их разрешать.
Ангела Меркель (Le Monde, 25 января 2012 г.)
Jean-Pierre Chevènement
1914–2014: l’Europe sortie de l'histoire?
Права на издание приобретены при содействии А. Лестер
© Librairie Arthème Fayard, 2013
© Майзульс М., перевод, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Введение
От одного броска к следующему, или Инструментализация истории
Существует множество вариантов того, как осмыслить[1], а значит, отметить годовщину столь чудовищного события (одиннадцать миллионов погибших, тысячи французских солдат, которые каждый день в течение четырех лет гибли на фронте), как начало Первой мировой войны, разразившейся в августе 1914 г., – события, колоссального по последствиям и до сих пор не раскрывшего всех своих тайн. Каждый судит о нем по своей мерке, и уже спустя век мы все еще не можем точно сказать, что это было: внезапный и резкий цивилизационный разрыв; «брутализация», т. е. одичание общества; трагическая заря предсказанной Марксом «эры войн и революций»; пролог «короткого XX века», который, по словам Хобсбаума, начался в 1914 г. и закончился в 1991 г. вместе с распадом СССР? Самоубийство Европы и, возможно, начало конца Франции? Закат либерализма и матрица двух «тоталитарных» режимов, которые поспешили провозгласить «близнецами-братьями»? Триумф «культуры войны», которая способна разрешить загадку холокоста?
Можно ли иначе объяснить, как в недрах одного из самых культурных народов мира вызрел смертоносный план уничтожить еврейский народ, без которого невозможно понять идентичность Европы? Как пишет историк Кристиан Инграо, «палаческая жестокость» айнзацгрупп, состоявших из полицейских, многие из которых прошли через Первую мировую, а в 1941 г. на русском фронте превратились в карателей, взывает к памяти о Великой войне: «Все сходились на том, что противостояние, начавшееся в 1914 г., еще не закончилось»[2]. Вот почему Джордж Мосс ставит свой «ключевой вопрос»: «К чему привел опыт массовой смерти на полях Первой мировой войны?»[3] Очевидно, что Первая мировая, из которой, как на взгляд немцев, так и позднее на взгляд союзников, вышла и Вторая мировая с исторической точки зрения остается горячей и даже болезненной темой. Хотя ей посвящено более пятидесяти тысяч книг, в ее истории все еще много загадочного. Я не профессиональный историк, но, как политик, не могу удержаться от некоторых «эвристических» параллелей между двумя периодами: сегодняшним днем и эпохой перед Первой мировой.
То, что век спустя ее все еще окружает ореол таинственности, происходит по понятной причине: если встать на точку зрения европейских наций, которые в 1914–1945 гг. объединились против Германии, 1914 год открывает новую «Тридцатилетнюю войну» (этот термин звучал из уст де Голля и Черчилля). Эти годы потребовались, чтобы сокрушить силу, которую в 1914 г. называли пангерманизмом, – одну из форм социал-дарвинистского этнонационализма, чье влияние явно выходило за пределы круга его прямых адептов[4]. Даже если он не был прямой причиной войны (это явное упрощение), то, конечно, приложил руку к тому, чтобы ее развязать. У войн памяти всегда есть политическое измерение, которое историки не должны игнорировать. Вот почему я хочу сразу же констатировать факт, который сегодня звучит настолько резко, что о нем предпочитают не говорить: пойдя на риск превентивной войны против России и Франции, политики, стоявшие у руля Германии в 1914 г. и находившиеся под более или менее сильным влиянием пангерманизма, взяли на себя политическую ответственность за первый в истории конфликт мирового масштаба. Таковы – в первом приближении – факты, которые ни одно историческое исследование не может оспорить, даже если в Германии они долго подвергались сомнению.
Я знаю, что существует множество манер писать историю: через призму социального, культуры и т. д. И все они могут принести свои плоды, если только не «заболтать» главное. Само собой, я вовсе не ставлю знак равенства между ответственностью узкого круга властей предержащих и всего немецкого народа.
Повторю, нельзя отождествлять пангерманизм (сколь бы он ни был влиятелен), которым были охвачены лишь военная элита, часть промышленников и несколько тысяч адептов, со всем немецким народом, – в 1914 г. он вовсе не стремился к войне. Он искренне полагал, что защищается от русской агрессии, в которую его заставили уверовать власти предержащие. Даже рейхсканцлер Бетман-Гольвег, если судить по его фразе: Wir springen in das Schwarze («Мы бросаемся в бездну»), в отличие от генералов, похоже, не понимал, что делает, когда объявлял войну. Подавляющее большинство европейцев в 1914 г. желало мира. Сами народы, на мой взгляд, не виновны в Первой мировой войне. Лишь требования «политкорректности» и привычка все упрощать заставляют сводить конфликт к столкновению разных «национализмов». Если непосредственные причины, приведшие к началу войны, могут, как мы увидим в дальнейшем, быть установлены с точностью, глубинные факторы следует искать в противоречиях «первой глобализации»[5], начавшейся в 1860-х гг. под эгидой Великобритании, и в борьбе за гегемонию: рынок не функционирует вне рамок «политики», а если этот рынок глобален, то зависит от мирового «гегемона». Вот почему вопреки господствующей сейчас моде я буду анализировать события, растянувшиеся более чем на век, прежде всего в их политическом измерении.
Память расплывчатая… и избирательная
Наша эпоха, базирующаяся на мгновенной передаче информации, по своей природе способствует забвению. Для «видеосферы» существует лишь настоящее. Интернет, который одновременно дарует индивиду свободу и делает его одиноким, растворяет коллектив. Британский историк Тони Джадт, возглавлявший Институт Эриха Марии Ремарка в Нью-Йоркском университете, в 2008 г. писал о том, как в «эру забвения» тяжело понять смысл даже того столетия, которое только что истекло. Мы ведь буквально «опутаны» «пристрастными полуистинами» (которые вдобавок сегодня уже устарели): «триумф Запада, конец истории; американский однополярный мир и неотвратимый триумф глобализации и рынка». «Мы стремимся, – продолжал он, – скорее забыть, чем вспомнить, и отрицаем преемственность, воспевая новизну каждого мига»[6]. Первая мировая война оказалась так глубоко вытеснена из памяти потому, что была перекрыта памятью о Второй мировой, и оттого, что наши современники были бы не в состоянии претерпеть неслыханные испытания, выпавшие на долю солдат траншейной войны, и вести наступления, из которых часто возвращалась лишь половина шедших в атаку. Мы лишь, пытаясь заклясть этот ужас, насмехаемся над глупостью генералов, которые приносили в жертву своих солдат, политиков, не желавших думать о том, сколько продлится и во что обойдется конфликт, и, наконец, над бессмыслицей самой войны.
«Я ненавижу войну!» Как не понять этот возглас, звучавший не только из уст пацифистов? Даже после 1918 г. можно было ненавидеть войну и тем не менее понимать, что она грозит повториться, ведь Вторая мировая была прежде всего попыткой пангерманизма взять реванш за поражение 1918 г. Конечно, она была не просто повторением – геноцид евреев раздвинул границы немыслимого. Тем не менее вряд ли кто-то осмелится спорить с тем, что это преступное безумие выросло из социальных и идеологических корней, сформировавшихся до 1914 г. На коммеморациях 1914 г. мы точно услышим об уникальности и радикальной новизне Первой мировой, и вряд ли кто-то, пойдя против духа нашего времени, напомнит о том, чем наши дни так похожи на ту эпоху.
Здесь вновь стоит прислушаться к Тони Джадту: XX век почти что скрылся «во тьме расплывчатой памяти», превратившись в «царство морализирующих воспоминаний, музей исторических зверств на службе у нравоучения. […] Опасность подобной трактовки, представляющей истекший век как эпоху беспрецедентных потрясений, […] состоит в том, что она убеждает нас, будто все это уже позади, смысл произошедшего ясен, и будто мы, сбросив груз прошлых ошибок, можем смело идти вперед, в лучшее и принципиально иное будущее»[7].
* * *
Память избирательна. Благомыслие диктует нам, что следует, а что не следует вспоминать. Будьте уверены, что на коммеморациях 1914 г. станут вовсю рассказывать об ужасах окопной войны и катастрофе Европы, но, скорее, не для того, чтобы их понять, а чтобы изгнать сам их призрак. Нам напомнят о четырехстах тысячах французов, погибших с августа по декабрь 1914 г., когда, решив любой ценой перейти в наступление, их бросили под немецкие пулеметы, превратив их алые панталоны в мишени; или о катастрофических попытках штурма: немецком наступлении при Вердене, которое должно было «обескровить французскую армию»; английском – на Сомме в 1916 г. или французском – на Шмен-де-Дам в 1917 г. Две последние атаки скосили не меньше солдат союзников, чем военные планы, состряпанные имперским Генштабом под Верденом.