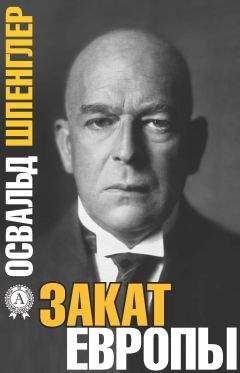Ознакомительная версия.
В числе как знаке выполненного, экстенсивного ограничения заключена, следовательно, сущность всего действительного, являющегося вместе с тем ставшим, познанным, ограниченным; это с внутренней достоверностью постиг Пифагор необыкновенной, прямо-таки религиозной интуицией. Однако если под математикой понимать обладание врожденным, виртуальным миром чисел, то ее не следует смешивать с гораздо более узкой научной математикой, учением о числах. Одна есть творческое и необходимое свойство сознания, другая – возможный род его духовного развития. Написанная математика, система мертвых положений, столь же мало, как и заключенная в теоретические работы философия, представляет полный состав математических и философских возможностей, которые таятся в глубине культуры. Существуют еще и совершенно иные пути сделать наглядным лежащее в основе числа изначальное чувство, подчинить оформляющему принципу ставшее и протяженное, будь то материя или пространство. В начале всякой культуры возникает архаический стиль, который можно было бы назвать геометрическим не только в раннеэллинском искусстве. Есть что-то общее, явно математическое, в дипилонском стиле древнегреческих погребальных урн, в стиле египетских храмов четвертой династии, с безусловным господством в нем прямой линии и прямого угла, в иератическом стиле древнехристианского рельефа саркофага и в романском орнаменте. Каждая линия, каждая фигура человека или животного, с ее совсем не подражательной тенденцией, раскрывает здесь мистический смысл числа в непосредственном отношении к тайне и культу смерти (окаменевшего).
Готический собор и дорический храм – это окаменевшая математика. Пифагор научно верно понял античное число как принцип мирового порядка осязаемых вещей, как меру и величину. Именно тогда число нашло выражение и в прекрасном порядке телесно-чувственного единства, установленного строгим каноном эллинских статуй, и в дорическом, как и ионическом орденах колонн. Все великие искусства оказываются некоторым родом ограничения, богатого содержанием и устанавливаемого посредством числа. Вспомним проблему пространства в живописи. Высокая математическая одаренность даже без всякой науки может быть продуктивной и достигнуть своего полного осознания. Если мы учтем огромное значение, которое уже в древнем царстве, за 2800 лет до Р. X., имело число при делении пространства храмов в пирамидах, технике строений, орошения, управления, не говоря уже о египетском календаре, – мы едва ли станем утверждать, что ничего не стоящая «счетная книга Яхмоса» эпохи Нового царства определяет уровень египетской математики. Австралийцы, духовное развитие которых еще находится на ступени первобытного человека, обладают математическим инстинктом, или, что то же самое, богатством числа, еще не оформленного словом и знаком, богатством, которое в отношении интерпретации чистой пространственности значительно превосходит греческое. Они изобрели в качестве оружия бумеранг; его действие позволяет заключать об инстинктивном умении обращаться с тем родом чисел, который мы предоставили бы высшему геометрическому анализу. Австралийцы обладают соответственно этому – такая зависимость выяснится далее – крайне сложным церемониалом и такой тонкой терминологией градаций родства, какая нигде больше не встречается, даже при высокой культуре. Соответственно этому греки в их наиболее зрелое время, при Перикле, не имели склонности, по аналогии с Эвклидовой геометрией, ни к церемониалу общественной жизни, ни к уединению, в полную противоположность барокко, которое рядом с анализом пространства видело возникновение дворца Короля-Солнца и государственной системы, покоящейся на династическом родстве.
Это стиль души, который находит свое выражение в мире чисел, но не в исключительно научном их понимании.
3.
Отсюда вытекает очень важное обстоятельство, которое до сих пор было скрыто от взоров самих математиков.
Числа в себе – нет и не может быть. Есть много миров чисел, потому что есть много культур. Мы имеем индийский, арабский, античный, западноевропейский тип числа, каждый в основе своей – нечто своеобразное и единственное, каждый – выражение своеобразного мироощущения, каждый – символ значимости, точно ограниченной наукой, принцип порядка ставшего, порядка, отображающего глубочайшую сущность одной-единственной души, той, которая является средоточием именно этой, а не какой-нибудь другой культуры. Существует, следовательно, более чем одна математика. Ибо, без сомнения, архитектоника Эвклидовой геометрии совершенно другая, чем архитектоника картезианской; анализ Архимеда совсем другой, чем анализ Iaycca, не только по языку формы, намерениям и средствам, но другой в своей глубине, в изначальном феномене числа, научное развитие которого он представляет. Это в духе и духом зачатое число, переживание границы, которое с внутренней необходимостью осмысленно и оформлено при помощи числа, следовательно, также вся природа, протяженный мир, картина которого возникла посредством этого спонтанного полагания границы и который всегда доступен трактовке только одного-единственного рода математики, – все это говорит не о человечестве вообще, но всегда о каком-нибудь одном определенном человечестве.
Стиль возникающей математики обусловлен культурой, в которой она коренится, и людьми, размышляющими о ней. Ибо число опережает дух, а не наоборот. Числа – творящие, а не сотворенные сущности. Дух может привести к научному развертыванию скрытых в них формальных возможностей, овладеть ими, посредством них достигнуть высшей зрелости; но видоизменить их он совершенно не в состоянии. В ранних формах орнамента и архитектуры, в дорической колонне и готике собора осуществлена уже идея Эвклидовой геометрии и счисления бесконечно малых за целые столетия до того, как родился первый математик этих культур.
Глубокое внутреннее переживание, настоящее пробуждение «Я», которое делает ребенка взрослым человеком, членом принадлежащей ему культуры, знаменует начало понимания числа и языка. Лишь с этих пор сознание имеет предметы как нечто во всяком отношении ограниченное и легко отличаемое от всего, что ни рассматривается; лишь с этих пор точно определяются свойства, понятия, причинная необходимость, система окружающего мира, форма мира, закон мира – «положенное законом», по своей природе всегда ограниченное, застывшее, подчиненное числу, – лишь в этот момент рождается внезапное чувство того, что знаменует собою число, будь оно в форме изобразительного искусства или математической науки. Ясно, что первобытному человеку и ребенку число еще недоступно и что решающая эпоха – историческая или биографическая – наступает, как только постигнутый в своем значении акт счета, измерения, обозначения, оформления позволит проявиться совершенно новому миру из вновь раскрывшейся внутренней жизни. Это переживание, с которым начинается великий стиль, рождает из первобытного человечества души культур, с их индивидуальным своеобразием.
И вот Кант разделил богатство человеческого знания на синтетическое a priori (необходимое и общезначимое) и a posteriori (возникающее из опыта) и математическое познание приурочил к первому. Этим он, несомненно, дал абстрактную форму выражения сильному внутреннему чувству. Но не говоря уже о том, что между этими двумя видами знания нет резкой границы (более чем достаточное количество примеров дают этому современная высшая математика и механика), – а ее безусловно требует самый род принципа, – a priori оказывается в высшей степени трудным понятием, но, несомненно, одной из самых гениальных концепций критики познания. Этим Кант устанавливает, не утруждая себя доказательством – которое к тому же совершенно невозможно, – неизменность форм всякой деятельности духа и их тождество для всех людей. Но Кантом совершенно упускается из виду то важное обстоятельство, что он в своих исследованиях исходил из духовного материала и интеллектуального облика только своего времени, между тем как степень этой «общезначимости» очень неопределенна. Рядом с несомненными факторами безусловно широкой значимости, которые хотя бы кажущимся образом независимы от того, к какой культуре, какому столетию принадлежит познающий, – рядом с ними в основе всякого мышления лежит еще совершенно другая необходимость формы, и ей подчинен человек именно как член этой, а не какой-нибудь иной культуры. Это два совершенно различных вида априорного содержания; какова граница между ними и есть ли она вообще – остается вопросом, на который нет ответа, потому что он лежит по ту сторону всякой познавательной возможности. Что постоянство духовных форм, считавшееся очевидным, является иллюзией, что в предлежащей нам истории есть несколько стилей познания – этого до сих пор никто не осмеливался признать. Но следует вспомнить о том, что consensus omnium может доказывать не только всеобщую истину, но и всеобщее заблуждение. Смутное сомнение здесь, впрочем, всегда было, и уже из самого разногласия мыслителей следовало бы сделать верный вывод. Но что дело идет не о несовершенстве человеческого духа, не о «еще не» окончательного знания, не о недостатке, а о роковой исторической необходимости – вот что является открытием. Наиболее глубокое и последнее не может быть открыто из неизменности, но только из различия, и только из органической периодичности этого различия. Сравнительная морфология форм познания является задачей, и разрешение ее еще предстоит западноевропейскому мышлению.
Ознакомительная версия.