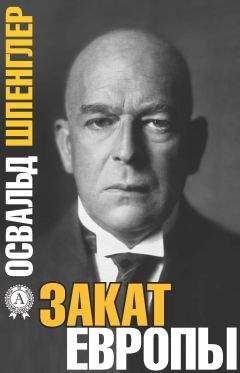Ознакомительная версия.
Будь математика обыкновенной наукой, как астрономия или минералогия, то ее предмет можно было бы определить. Но этого нельзя сделать, и никто этого и не мог сделать. Мы, европейцы Запада, можем, конечно, насильно применить наше собственное научное понятие числа к тому, чем занимались математики в Афинах и Багдаде; но несомненно, что тема, намерение и метод одноименной науки были там совершенно иными. Нет одной математики, есть только разные математики. То, что мы называем историей математики, то есть мнимо непрерывное подтверждение единственного и неизменного идеала, оказывается на самом деле – стоит только устранить обманчивую картину исторической поверхности – множеством замкнутых в себе, независимых процессов, повторяющееся рождение новых, применение, преобразование и очищение чуждого мира форм, чисто органические, связанные с определенной длительностью расцвет, созревание, увядание и смерть. Не следует обманывать себя. Чуждый истории греческий дух создал свою математику из ничего; склонный к историчности дух Запада, овладев античной наукой – внешне, не внутренне, – должен был достигнуть своей собственной науки посредством кажущегося изменения и улучшения, фактически же – посредством упразднения неадекватной ему Эвклидовой математики. Одна была создана Пифагором, другая – Декартом. Оба акта тождественны в своей глубине.
Родство формального языка математики с современными ей великими искусствами не подлежит никакому сомнению. Целью всякой математики является законченная в себе система положений, которая представляет собою априорный синтетический порядок застывшей протяженности, – тот же неустанно достигаемый синтез, который выступает и в проблеме формы каждого изобразительного искусства, и в борьбе каждого отдельного художника за техническое превосходство в своей области. Чувство формы скульптора, живописца, композитора – существенно математично. В геометрическом анализе и проективной геометрии XVII столетия обнаруживается тот же порядок, который вызывает к жизни, охватывает и проникает современную инструментальную музыку стиля фуги посредством правил контрапункта – этой геометрии звукового пространства – и тесно связанную с музыкой живопись масляными красками посредством только Западу известной перспективы, осязаемой геометрии, данного в чувственном образе пространства. Этот порядок есть то, что Гете назвал идеей; образ ее непосредственно созерцается в чувственном, между тем как обыкновенная наука не созерцает, но только наблюдает и расчленяет. Но математика выходит за пределы наблюдения и расчленения. Она в свои высшие мгновения живет в интуиции, а не в абстракции. По глубокому изречению Гете, математик совершенен настолько, насколько он постигает красоту истинного. Здесь чувствуется, как близко тайна феномена числа стоит к тайне формы искусства, которое также находит свою цель в полном значения ограничении, в прекрасной соразмерности, в исчисленной величине, в строгом соотношении, гармонии – короче, в совершенном порядке чувственного. Прирожденный математик стоит рядом с великими мастерами резца и кисти; они также стремятся облечь в символы, осуществить, передать тот великий порядок всех вещей, который носит в себе обыкновенный человек их культуры, не обладая им в действительности. Царство чисел, таким образом, становится отображением мировой формы наряду с царством звуков, линий и красок. Слово «творческий» значит поэтому в математике больше, чем в обыкновенных науках. Ньютон, Гаусс, Риман – натуры художественные. Вспомните, как великие концепции внезапно их озаряли. «Математик, – говорит старик Вейерштрасс, – в котором нет поэта, никогда не будет совершенным математиком».
Итак, математика есть искусство. Она имеет свои стили и периоды стилей. Она не является неизменной по своей субстанции, как полагает профан, а также и философ, поскольку он профан в этом вопросе, но, как и всякое искусство, она подчинена незаметным превращениям от эпохи к эпохе. Не следовало бы никогда изучать развитие великих искусств, не бросив взгляда на современную им математику: этот взгляд не остался бы бесплодным. Никто не исследовал особенности очень глубоких отношений между тенденциями музыкальной теории начиная с Орландо Лассо и фазами развития теории функций, хотя такое исследование могло бы научить эстетику большему, чем какая угодно «психология». Все действительно великие математики со времен Ферма, Паскаля и Декарта (1630) – аналитики трансцендентного; все античные математики начиная с Пифагора (540) – натуры мыслящие воззрительно-телесно. Должен ли я еще раз указать на тесное родство этих дарований с наступающим расцветом, с одной стороны, чистой инструментальной музыки, с другой – ионическою скульптуры? Античная математика, вначале почти только планиметрическая, в своем развитии от Пифагора к Архимеду обнаруживает тенденцию к стереометрическому мышлению всего измеримого числом. Этому отвечает тенденция – от живописи в плоскости аттико-коринфского стиля через возвышающийся наш плоскостью рельеф к скульптуре статуй. Статуя вози никла частью из фигурно-рельефно трактованной колонны (Гера Херамиса), частью из служившей для украшения стен деревянной или медной доски (Артемида Никандры). Как дерево, так и известняк обрабатывались ножом, но только работа резцом по мрамору вполне удовлетворяла художественному чувству творчества тела. Аналогичное происходит и на Западе: инструментальная музыка достигает новых способов выражения по мере того, как геометрия сохраняющая это название и дальше, преобразуется в анализ чистого пространства, из которого шаг за шагом устраняется непосредственно воззрительно, следует обратить внимание на то, как далеко отходит понятие координат Декарта от Ферма. С 1520 года изобретенная в Верхней Италии скрипка начинает вытеснять лютню. Фагот известен с 1525 года. В Германии в течение XVI и XVII столетий орган стал покоряющим пространство инструментом. У Монтеверди (1567–1643), который введением доминантсептаккорда дает основы подлинной хроматики, был первый настоящий оркестр, и в 1630 году в лице, Фрескобальди появляется первый великий виртуоз органа. И рядом с analysis situs, этим образцовым творением Лейбница, стоит могущественная символика пространства последних работ Рембрандта, умершего в 1669 году, – автопортрета в Мюнхене, дармштадского Христа и евангелиста Матфея.
Воля к форме всякой математики отличается от чисто научных намерений всей физики и химии и сближает ее с изобразительными искусствами, несомненно, еще и тем, что ее элементы – мертвые числа, рассматривать ли их воззрительно или трансцендентно, не являются эмпирической действительностью, а чистой формой протяженного, как линия орнамента или музыкальная гармония; ее деятельность, следовательно, говоря словами Канта, синтетична или, выражаясь языком искусств, есть композиция, в которой настоящий художник подлежит высшему принуждению – кантовскому «a priori». Это менее проявляется я общеизвестных частях математики. Но числовые образования более высокого порядка, к которым восходит каждая из математик, причем путь каждой отличен от пути остальных (как, например, индийская десятичная система, античная группа конических сечений, первых чисел и правильных многогранников, на Западе числовая область), многомерные пространства, высокотрансцендентные образования теории трансформации и учения о множествах, группа неэвклидовых геометрий – все эти образования уже не имеют чисто рассудочного происхождения; для проникновения в их последние, чисто метафизические основы они предполагают род вдохновенного просветления. Здесь дело идет о внутреннем переживании, не просто о познании. Только здесь начинается великая символика чисел. Эти формы, возникая в духе великих мастеров, как выражение последней тайны их мироощущения, открывают посвященному нечто вроде изначальной глубины его существования. Эти творения надо почувствовать как внутренность собора, как хоры ангелов в прологе «Фауста» или кантату Баха, что случается лишь в редкие счастливые минуты. Только тот, кому это доступно, а зрелых духом всегда будет немного, поймет Платона, назвавшего «числами» вечные идеи своего космоса,
5.
Около 540 года, когда в кругу пифагорейцев пришли к пониманию числа как сущности всех вещей, это не было «шагом вперед в развитии математики», но было рождением из глубин античного духа совершенно новой математики, осознавшей себя теорией после того, как долгое время она уже проявлялась в метафизических проблемах и художественных формах. Греческая математика есть такая же новая математика, как и никогда не написанная математика Египта или алгебро-астрономическая математика вавилонской культуры, с ее эклиптическими координатными системами; обе они были порождены в великие часы истории и к тому времени давно уже уследи угаснуть. Одряхлевшая ко времени Рима античная математика исчезла из живого становления, несмотря на свое длящееся и поныне прозрачное существование в нашем способе обозначения; много позднее и в отдаленной стране она дала место арабской математике; за последней, давно умершей, следует после долгого промежутка, опять как совершенно новое творение новой почвы, наша западная математика; в удивительном ослеплении мы принимаем ее за всю математику, за вершину и цель двухтысячелетнего развития, но и для нее также строго отграничены столетия, ныне почти уже истекшие.
Ознакомительная версия.