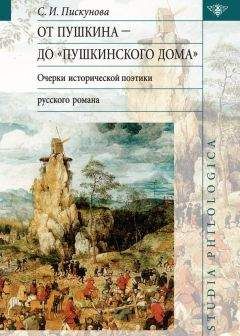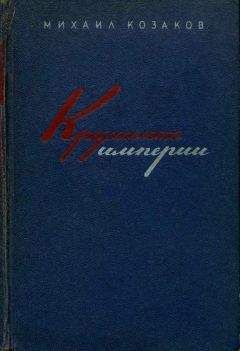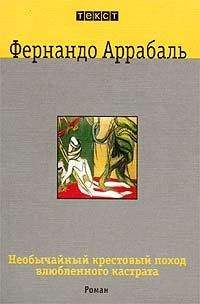Ознакомительная версия.
Подобно тому, как Чулков идентифицируется со взглядом своей рассказчицы от первого лица, он приспосабливается к возможностям Мартоны также в языке и стиле рассказа. В то время как автор даже в своём предисловии и введении ещё применяет архаизирующие и в результате этого «поэтические» формы, в рассказе Мартоны они заменяются соответствующими новыми[420]. Что и внутри самого рассказа можно констатировать колебания между старыми и новыми формами, а также между различными стилями[421], объясняется не такими стилистическими нюансировками, а тем, что русский разговорный, а также письменный язык в середине XVIII в. ещё не был строго нормирован и в самом общем виде обнаруживает такие колебания. И всё-таки рассказ Мартоны большей частью характеризуется предпочтением к таким формам, более молодым с точки зрения тогдашнего состояния языка[422], и охотно применяет такие, которые были обычны в московском разговорном языке[423]. Диалектные различия в речи отдельных персонажей, как их показывал, например, в своих комедиях современник Чулкова Лукин, отсутствуют. У Лукина язык отдельных персонажей отличался от языка других определёнными особенностями диалектов[424]. У Чулкова же, например, и воспроизведённая прямой речью «сказка» слуги рассказана без специфической диалектной окраски, хотя этот слуга ранее определённо характеризовался как «малоросс»[425].
Состав словаря Мартоны ещё характернее чисто грамматической стороны её языка. Доля церковно-славянского необычно мала. Архаические формы вроде «аз», «дванадесятые» и им подобные, встречаются почти только в устоявшихся конструкциях из церковного языка (например, «дванадесятые праздники»[426]) или в точно так же устоявшихся оборотах, вошедших в поговорку (например, «Аз не без глаз»[427]). Зато велико число иностранных слов. Их большая часть – термины канцелярского языка, характерные тогда для повседневного языка русских горожан, например, «аттестат»[428], «титул»[429], «пашпорт»[430] и другие. Но «развратная женщина» также обычно охотно украшает свою речь иностранными словами, которые должны придать её сомнительным занятиям более «благопристойный» характер. Таков, к примеру, оборот «иметь с ним компании»[431]и ему подобные. Временами такого рода «украшающее» иностранное слово комментируется прибавлением русского соответствия, в результате чего само этот приём становится слегка ироническим, когда, например, Мартона рассказывает, что её возлюбленный подарил ей «сервиз иль попросту посуду»[432]. Но эта ирония в «Пригожей поварихе» не превращается в прямую полемику против маниакального пристрастия к иностранным словам, как в «Пересмешнике»[433] и даже не становится преувеличенно пародийной. Частота и подбор иностранных слов сохраняются в границах того, что было обычным при всеобщем тогда предпочтении иностранных слов (особенно среди горожан).
Но в наибольшей степени обращает на себя внимание и наиболее выражен элемент, характерный для народного и разговорного языка. Воспринимаются не только разговорные формы (как, например, любимые уменьшительные формы «матушка», «сестрица», «голубушка»[434]), но и целые типичные обороты народного и разговорного языка, вроде «входить в такую мелочь»[435], «вертится на языке»[436], «таскаться по местам»[437], «оберу тебя до нитки»[438], «возврати всё до капли»[439], «и я была не промах»[440] и им подобные. И любовный язык Мартоны, более того, как раз он, богат выразительными, но порой просто вульгарными выражениями, вроде «впустилися в любовь» (речь идёт о начале ласк)[441], «скоро отбоярить его» (быстро отделаться от возлюбленного)[442], «хотя по уши в воду» (описание безграничной готовности любовника)[443] или «нашу братью» (речь идёт о «нашей сестре, что не особо строгого нрава»)[444]. Это только небольшая выборка из множества подобных примеров.
Элементы, характерные для народного языка, проявляются наиболее отчетливо в пословицах, которые очень часто встречаются в рассказе Мартоны и, вероятно, вообще представляют собой наиболее бросающийся в глаза стилистический признак. Особенно в начале пословицы так и следуют одна за другой[445]. Их большая часть определённо характеризуется предшествующими формулами вроде «по пословице»[446] или «по приговорке»[447], а благодаря кавычкам подчёркивается и в печатной форме. Временами даже друг за другом ставятся сразу две пословицы для характеристики одной-единственной ситуации, например, «по пословице: «шило в мешке не утаится» или «виден сокол и по полету»[448]. Внутри процесса повествования эти пословицы могут выполнять различные функции. Они появляются в виде наглядных сравнений и образов в рассказе[449], как обороты внутри диалога[450], но прежде всего они – самое излюбленное средство моральной рефлексии, ибо они, словно скупые выводы из ранее обрисованных счастливых или несчастливых случаев, выражают собственный жизненный опыт и представление о мире[451].
Доминирование пословиц и других элементов народного языка отличает язык «Пригожей поварихи» от почти всех остальных русских романов XVIII в., но это обращение к народному языку означает у Чулкова не прямую стилизацию в направлении фольклора (как обстоит дело, например, с историей Ваньки Каина, о которой ещё пойдет речь). К тому же язык Мартоны отмечен слишком сильным воздействием литературы. Если рассказчица пользуется сравнением или описанием, то она наряду с пословицами почти столь же часто выбирает образы античной мифологии и истории. Венера[452] и Купидон[453], Парис и Елена[454], грации[455], Адонис[456], и Меркурий[457]– вот излюбленные сравнения. Она беспокоит даже Сократа[458]. Это могло бы показаться прежде всего не вполне соответствовавшим кругозору поварихи, но при более точном рассмотрении оказывается вполне соответствующим той среде, в которой пребывает Мартона. Ведь имена персонажей греческой мифологии остаются чистыми шаблонами и сохраняются в рамках того, что во времена русского классицизма (происходит из рассказа Мартоны) должно было быть привычно для женщины, общавшейся с представителями средних городских слоев и даже посещавшей «литературные салоны»[459]. При этом вовсе не было необходимости в прямом знании классицистической или даже античной поэзии, ведь и популярную рукописную литературу пронизывали имена и сюжеты античной мифологии и истории. И как раз в духе этой народной традиции Мартона применяет «античные» сюжеты, например, если она только упоминает Сократа, чтобы заметить, что и этот заклятый враг женского пола оказался во власти супруги, да ещё особенно гадкой[460]. Этот мотив, популярный в антифеминистской сатире всей Европы уже в средние века, неоднократно встречается в дошедших от прошлого русских фацетиях.
Вообще большинство обращений Мартоны к именам и образам античности имеет сатирически-пародийный оттенок. Отчетливее всего это проявляется в многочисленных оксюморонах, в которых в результате связи существительного с противоречащим ему прилагательным метафора прямо ломается или превращается в свою противоположность, как, например, «беззубый мой Адонид»[461], «седому моему купидону»[462], «сия беззубая Грация»[463] и им подобные. Или сатирический элемент покоится не на прямом устранении метафоры, а обязан своим возникновением тому, кто применяет эти сравнения. Так, например, в речах старого подполковника множатся имена вроде Венеры, Елены, Париса и Менелая[464], без помещения в начало контрастирующего прилагательного. Но речи старика, несомненно, представляют собой пародию на архаизированный и высокопарный стиль[465], ещё усиливающуюся благодаря тому, что речь идёт об объяснении в любви старика, и что сама Мартона комментирует эти излияния как проявления умопомешательства своего «беззубого Адонида»[466].
Чулков применяет здесь те же средства, что и в «Пересмешнике», в уже рассмотренном в предыдущей главе эпизоде о влюбленном управляющем Куромше. Но для различия между стилем «Пригожей поварихи» и «Пересмешника» характерно, что автор теперь давно уже не так широко пародирует стиль и более косвенно формирует его. Отсутствует также характерная для «Пересмешника» прямая литературная полемика, и насмешка над классицизмом ограничивается теперь иронией по адресу «возвышенного» стиля, черпающего из античного репертуара. Соответствующая сдержанность сохраняется также при ликвидации метафор. В «Пересмешнике» эта ликвидация относится к наиболее излюбленным стилистическим средствам, причём автору нравится сначала полностью изложить шаблонные метафоры, чтобы затем ликвидировать их с помощью трезвого комментария[467]. В «Пригожей поварихе» Чулков довольствуется фигурой оксюморона и в результате этого достигает и контрастного воздействия, не подвергаясь опасности превратить речь поварихи Мартоны в полемически-пародийную игру одного автора с шаблонами других.
Наряду с примерами из античной мифологии рассказчица любит описания из военной сферы вроде «получить команду»[468] и «мой прежде бывший командир»[469] (по поводу господства мужчины над женщиной и наоборот); «… бледен так, как будто бы готовился к сражению»[470]; «обмундироваться терпением»[471]) и подобные. Часты также сравнения из сферы театра, вернее, комедии. Так, переодевание Ахаля названо «новомодной комедией», «первый акт» которой как раз и играется[472]. С «комедией», её отдельными «актами» и её «действующими лицами» сравнивается также эпизод в салоне купчихи, а её отдельные сцены характеризуются как «интермедии»[473]. Но нет недостатка также и в картинных описаниях из купеческой жизни. Так, например, начало новой любовной связи описывается как «торговля» и заключение «контракта», причём любовь фигурирует в роли «полиции»[474]. И наоборот, представления из любовной жизни переносятся на природу. Вот как рассказывает Мартона о своём странствии после того, как её изгнала супруга Светона: «Леса и поля мне были незнакомы, они были мне не любовники, не прельщались моей красотою и мне ничего не давали, следовательно, находилася я в крайней бедности.»[475].
Ознакомительная версия.