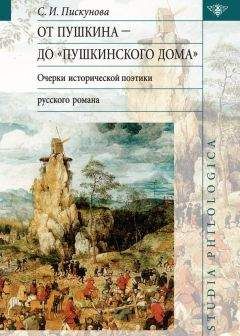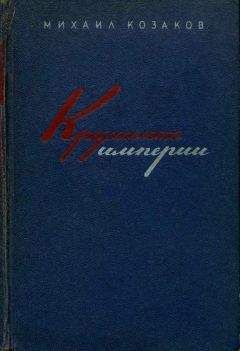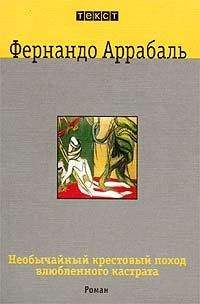Ознакомительная версия.
Прорабатывая «Lucette, ou les progres du libertinage» (часть I и II, Paris 1765) и «Suite de Lucette» (Paris 1766), я, однако, установил, что общее этому роману с «Прихожей поварихой» – только сюжет (жизнеописание «грешной женщины»), в остальном же не соответствует ни её фабуле, ни деталям или форме (отсутствие рассказа от первого лица). То же касается «La paysanne pervertie» (1777), «Les Foiblesses d'une jolie femme» (1779), «La Folle de Paris» (1787) Нугаре и обоими лишь слегка измененными новыми изданиями «Lucette»: «Les Dangers de la seduction» и «Juliette, ou les Malheurs d'une vie coupable». Они не дают ни малейшего повода предполагать прямое влияние, не говоря уже о действительной зависимости Чулкова от Нугаре, в результате чего исчезает и последний прямой оригинал, который Сиповский считал возможным.
Более целесообразны и исчерпывающи, чем высказывания Сиповского, выводы В. С. Нечаевой в её вышедшей в 1928 г. статье о Чулкове. Так как перечисление возможных литературных параллелей с отдельными сюжетами и образами «Пригожей поварихи» или с рассказами проституток как целым обеспечил уже Сиповский и оно оказалось бесплодным, автор определённо отказывается от таких исследований и рассматривает вместо этого позицию «Пригожей поварихи» внутри беллетристики Чулкова. Мартона появляется в качестве конечного и кульминационного пункта ряда плутов Ладон – Монах – Неох – Мартона. В то время как предпринятые Нечаевой анализы «Пересмешника» страдают из-за того, что считает произведением автор Чулкова и «Русские сказки» Левшина и недостаточно чётко разделяет оба собрания[498], её сравнение четырёх образов плутов метко и интересно. Вот только ограничение наследием Чулкова, в котором «Пригожая повариха», несомненно, наиболее удавшееся и внутренне единое прозаическое произведение, ведет к несколько односторонней переоценке романа. Так, например, можно будет согласиться с мнением Нечаевой, согласно которому «Пригожая повариха» – первый русский роман нравов[499]. Если же одновременно утверждается, что этот роман приводит к радикальному отходу от формы авантюрного романа. Здесь приключения более не располагаются вокруг центрального персонажа, а сама героиня определяет и мотивирует события[500]. Такое утверждение не вполне верно. Ведь и рассказ Мартоны ставит в ряд одно топическое приключение за другим, и сама Мартона при этом едва ли активнее «мотивирует» события вряд ли больше чем герои авантюрных романов или плуты в плутовских романах. На таких примерах становится ясно, что Нечаева, концентрируясь на образе Мартоны, рискует отделить его от контекста романа, обособить и в результате этой изоляции слишком высоко оценить и весь роман.
Это имеет силу, по сути дела, и для характеристики «Пригожей поварихи» как «русской Манон Леско»[501], которую дала Нечаева. Конечно, на её взгляд такое сравнение не более чем включение в определённый литературный тип в соответствии с очень общими признаками. И беззаботную, в значительной степени аморальную Мартону вполне можно как тип сравнить с ещё более беззаботной и ещё более аморальной Манон. Но как раз сравнение Мартона – Манон и показывает, насколько нерасторжимо такие персонажи романов связаны со структурой романа и, как «характеры», представляются обусловленными общим замыслом романа. Мартона сама рассказывает о своей жизни, она предоставляет нам полную возможность вглядеться в её не очень сложную, но переменчивую духовную жизнь, в то время как мотивы её возлюбленных вовсе непостижимы или поддаются пониманию только по их делам и словам. С Манон же дело обстоит как раз наоборот. Она предстает перед нами лишь в изображении и видении своего возлюбленного, маркиза, безоговорочно и безмерно, но столь же слепо любящего возлюбленного, который всей душой за неё, не будучи, однако, в состоянии понять, как он действительно выглядит в глазах возлюбленной, более того, однозначно решить, выпала ли вообще на его долю подлинная взаимная любовь или нет. Как раз эта невозможность заглянуть в духовную жизнь возлюбленной, пронзающая неизвестность любящего, в которой Прево оставляет своего маркиза (как и своего читателя) до самого конца, придает роману свою почти уникальную напряженность и изобразительное единство, которое и по сей день обеспечивает воздействие этого произведения Прево. Следовательно, не только различие в художественном совершенстве или страстности обрисованного любовного приключения отделяет историю Манон от истории Мартоны, но и принципиальные отличия в общей концепции романа, а в её рамках и самого персонажа романа.
Постольку Мартону – если вообще имеются намерения предпринимать такие всеобщие литературные отожествления – скорее следовало бы назвать русской Picara (плутовка, мошенница. – Исп., прим. пер.) или Молль Флендерс, нежели русской Манон. И потому, что она – Picara, Нечаева может также обоснованно противопоставить её героиням и героям героических приключенческих романов. Правда, это не относится к окончанию рассказа. Но характерно, что Нечаева вообще не останавливается детально на этом заключении. Стремясь изобразить Мартону не только настоящей Picara, но и «реалистическим» русским персонажем, она оставляет без внимания всё, что не вписывается в эту картину. Это тенденция, несомненно, свойственная и оценкам «Пригожей поварихи» в новейшей советской истории литературы[502].
При этом не следует переоценивать специфически «русское» и «реалистическое» в романе Чулкова и его главном герое. Представляется, что непосредственное начало оправдывает такую оценку, ибо оно, как было уже показано, задаёт точные исторические, локальные и социальные координаты личности Мартоны. Но тех, кто на основании этого начала ожидает «исторической», специфически русской картины эпохи, вскоре постигнет разочарование. Исторические датировки отсутствуют с самого начала, и нет других указаний на исторические события соответствующего времени. Эти указания постоянно обнаруживаются, например, в «Кураже» Гриммельсгаузена (и тем более в его «Симплициссимусе»)[503]. Правда, место действия уточняется ещё раз, при переселении в Москву, но у самих событий отсутствуют локальная окраска и привязка. Хотя Киев и Москва и названы, они не описываются ни единым предложением, и приключения Мартоны с таким же успехом могли бы происходить в любом другом русском (а по сути дела, и не русском) городе. Подобно тому, как имена Мартона, Свидаль, Ахаль, Светон и т. д. не являются действительно русскими именами и с таким же успехом могут встретиться в любом другом романе, их носители со своими приключениями почти сплошь не специфически русские, а скопированы с повсеместно распространенных романных шаблонов[504].
Правда, это ещё не даёт основания характеризовать роман Чулкова как малоценное подражание, а именно так и поступила Белозерская. Если Чулков в значительной степени следует за литературным шаблоном, то тем самым ещё не сказано, что он подражал вполне определённому литературному оригиналу и придерживался его, что Сиповский считал возможным и вероятным. Против этого говорит, во-первых, что поиски такого прямого оригинала оставались до сих пор полностью безрезультатными, а во-вторых, методы литературной работы Чулкова. Как показал уже анализ «Пересмешника», Чулков хотя и охотно воспринимал литературные импульсы, но делал это не в форме прямого подражания, а прибегая к свободному заимствованию определённых мотивов, техник и шаблонов, которые он комбинировал с собственными или другими шаблонами. Представляется, что это имело место и в его «Пригожей поварихи».
Против подражания какому-то определённому западноевропейскому плутовскому роману говорит также и то обстоятельство, что, несмотря на большую популярность западноевропейского плутовского романа у русских читателей XVIII в., ни «Pi'cara», ни «Кураже» или «Молль Флендерс» не переводились в XVIII в. на русский язык (и даже не подтверждается наличие их оригиналов в это время в России). Ещё не было русского перевода самостоятельного «женского» плутовского романа, который мог бы служить прямым оригиналом «Пригожей поварихи». Зато перевод «Жиль Бласа», выполненный годами ранее и давно снискавший популярность, содержит одновременно несколько исповедей «развратных женщин». Эти фрагменты отличались от самостоятельных женских плутовских романов только благодаря их вмонтированию в роман в целом[505]. Так Чулков мог заимствовать из «Жиль Бласа» образец не только «мужского», но и «женского» плутовского романа, и он, вероятно, это и сделал. Но позаимствовал только и единственно образец как таковой, который сам Лесаж варьировал в соответствии с традицией, и к которому Чулков добавил дальнейший, русский вариант, но в форме самостоятельного романа.
Так «Пригожая повариха» – не только первый женский русский плутовской роман, но и первый самостоятельный роман этого рода, вышедший в России. Она, сверх того, первый настоящий плутовской роман русского автора. Ибо в «Пересмешнике» рассказ плута от первого лица выполнял только весьма скромную частичную функцию, и лишь второй роман Чулкова полностью развил и сделал самостоятельным такое повествование. Самое существенное формальное достижение этого произведения заключается в последовательном соблюдении перспективы повествования, в чём оно превосходит не только все русские, но и многие западноевропейские плутовские романы. И как раз благодаря осознанному приспособлению к вымышленной рассказчице Чулков достигает здесь внутреннего единства и наглядности также в языковом и стилистическом отношении. Оно и отличает его «Пригожую повариху» от большей части русских романов этого времени. Пусть роману с учетом силы художественного изображения, исторической результативности и реалистических деталей удалось гораздо меньше, чем наиболее значительным западноевропейским романам этого рода, пусть те интерпретаторы, которые превозносят «Пригожую повариху» как неповторимо русское и подлинно «реалистическое» произведение, слишком переоценивают имеющиеся подходы и замалчивают имеющиеся недостатки. Она всё же остается одним из важнейших русских плутовских романов и одним из наиболее примечательных русских романов XVIII в.
Ознакомительная версия.