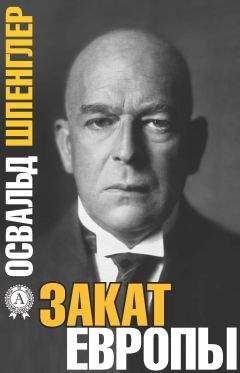Ознакомительная версия.
Таким образом, судьба является подлинным способом существования перво феномена, в котором духовный взор непосредственно созерцает развертывание живой идеи становления. Идея судьбы властвует над картиной всемирной истории, тогда как причинность, которая является способом существования предметов, которая отливает наличное содержимое ощущений в отличающиеся друг от друга, разграниченные вещи, свойства и отношения, образует в качестве формы рассудка его alter ego – ставшую природу.
Организмы можно рассматривать как становящиеся или как ставшие. В самом деле, поскольку я рассматриваю познаваемое при помощи опыта строение растений и животных в качестве элемента чувственно-текучего целого, принадлежащего к механическому миру, я вправе говорить о законах, о причине и действии. В этом случае логичен и уместен даже столь ненавистный Гете эксперимент. Но анатомия и физиология, имеющие дело с материальной природой как с объектом своего исследования, не дают нам никаких сведений о другом мире, о судьбе отдельных животных и растений, их видов, целых классов и царств. Тут речь идет не о том, что они такое, но что с ними станется. Каждая былинка, каждое насекомое имеют не только свою природу, но и свою историю. С этой точки зрения я вправе говорить о другой картине мира, о судьбе, даже по отношению к физике. Выражение «судьба научного открытия», например механической теории теплоты, имеет глубокий смысл. Удар грома, рассматриваемый в исторической связи событий, всегда содержит в себе момент судьбы, подобно тому удару, который в жизни Лютера послужил решительным толчком к его обращению, хотя бы даже этот самый удар грома в качестве неиндивидуального явления, но принципиально всегда возможного процесса столь же необходимо принадлежал также механизму электродинамической картины мира. Предположивши существование античного человека, мы можем заняться анализом его «природы», той природы, которая одна только была ему дана и одна только была для него истинной. Такой анализ был произведен Демокритом. Но именно это предположение содержит момент судьбы, которой обусловлено существование определенной природы, определенной картины мира. Судьбе было угодно, чтобы благодаря Ньютону из структуры западного духа развилось динамическое миропонимание. Этот замкнутый в себе, в высшей степени убедительный комплекс «непреложных истин» в весьма значительной степени обусловлен ходом развития, общими, национальными и приватными судьбами, продолжительностью жизни северной души, а не наоборот. Каждый великий физик, который в качестве определенной личности всегда сообщает своим открытиям особое направление и особую окраску, каждая гипотеза, которая вообще невозможна без индивидуального привкуса, каждая проблема, которая попадает в руки именно этого, а не иного исследователя, – все это случайные, «роковые» совпадения, определяющие окончательную форму, принимаемую тем или иным учением. Кто это оспаривает, тот не чувствует, сколько условного содержат абсолютные истины механики. Знаменитый музыкальный спор между глюкистами и пиччинистами является точной аналогией великих контроверз в области оптических и электродинамических теорий (Ньютон и Гюйгенс, И.-Р. Майер и Томсон). Тут дело идет о вопросах стиля, то есть о вселенной, об общей картине природы. Физические системы подобны трагедиям и симфониям. Здесь такие же школы, традиции, такая же манерность и условность, как и в живописи. Когда речь идет о живом становлении, мы не можем оставлять без внимания судьбы, будем ли мы говорить о бабочке или о культуре. Жизнь, бытие и судьба – все это скрещивающиеся моменты. Однако чувствуется принудительность в представлении, что каждый мир, конструированный согласно принципу причинности, каждая природа – а ведь каждая зрелая культура имеет свою собственную, и притом «единственно правильную», природу – каким-то образом существуют только в духе и для духа, который налагает ее, как свою соразмерную и восполняющую его форму чувственности, на ставшее, протяженное, ограниченное. Темный вопрос о границах значимости причинности, или, что то же, о судьбах отдельной картины природы, покажется еще загадочнее, если у нас создается определенное чувство, что – как то подтверждают все психические и символические явления – для человека молодых культур вовсе не существует упорядоченного согласно законам причинности окружающего мира. В самом деле, мы, люди увядающей культуры, в бодрственном состоянии постоянно находящиеся под тиранической властью механизирующего рассудка, в моменты напряженного внимания – те единственные моменты, когда мы действительно обладаем подчиненным закону причинности внешним миром в стиле нашей физики, – в лучшем случае можем утверждать, далеко не достигая даже намека на доказательность, что и «тогда», то есть вне этих связывающих нас моментов, принцип причинности должен иметь силу; а это означает только то, что мы подчиняем встающую в нашей памяти картину «вселенной» тех времен и людейтеперешней картине свойственной нам механической природы. Человек молодой культуры никоим образом не идет так далеко, чтобы понимать свою картину мира совершенно безлично, как картину общечеловеческую, и его чувство, в большей степени историческое, несомненно, является более первоначальным и подлинным.
10.
Проблема времени доступна для нас только на основе мироощущения искания и его истолкования при помощи идеи судьбы. Так как она касается темы книги, то мы должны немного остановиться на ее содержании. Со словом «время» всегда связывается нечто в высшей степени личное; то, что раньше было обозначено нами словом свое, поскольку оно с внутренней достоверностью ощущается как противоположность чему-то чуждому; то, что проникает наше ощущение жизни, переплетаясь и перемешиваясь с действиями на нас чувственного мира. «Свое», «судьба», «время» – эти слова почти синонимы.
Проблема времени, подобно проблеме судьбы, всегда понималась совершенно превратно мыслителями, ограничивавшимися систематизацией ставшего. В знаменитой теории Канта ни слова не говорится о свойственном времени признаке направленности. Отсутствия упоминания об этом признаке даже не замечали. Но что такое время как протяжение, время без направленности? Все живое – я могу только повторить сказанное мною раньше – обладает «жизнью», направленностью, стремлением, волею, подвижностью, глубоко родственною исканию, но не имеющею ничего общего с «движением» физиков. Живое неделимо и необратимо, однократно и неповторимо, процесс жизни совершенно неопределим механически – все это признаки, характеризующие существо судьбы. Но такой же органический характер свойствен и «времени», в отличие его от мертвого пространства, – я имею в виду то действительное ощущение, которое возникает при звуке слова «время» и которое лучше всяких слов может быть выражено музыкою. Таким образом, совершенно исключается признаваемая Кантом и всеми другими возможность параллельного гносеологического трактования времени наравне с пространством. Пространство есть понятие. Время же – слово для обозначения чего-то непонятного, слово, смысл которого совершенно извращается, если оно в качестве понятия также подвергается научной трактовке. Даже слово «направленность», которое не поддается замене, способно ввести в заблуждение оптическим образом, связывающимся с ним. Физическое понятие вектора может служить доказательством этого.
Для первобытного человека слово «время» не имеет никакого значения. Он живет, не испытывая в нем необходимости, ибо ему не нужно выражать им противоположность чему-нибудь другому. Он обладает временем, но он ничего не знает о нем. Только дух высших культур под механизирующим давлением природы вырабатывает фантом времени из сознания строго упорядоченной, измеримой, рассудочно постижимой пространственности; этот фантом должен удовлетворять его потребность все познавать в понятиях, измерять, упорядочивать согласно принципу причинности. Таким образом, инстинктивный акт, совершаемый в каждой культуре очень рано – символ утрачиваемой невинности, – сверх подлинного жизнеощущения создает то, что всеми культурными языками обозначается словом «время» и что для познающего духа превращается в неорганичную величину, столько же сбивающую с толку, сколько и привычную для всех. Но если тождественные феномены протяжения, границы и причинности означают заклятие душевным началом чуждых ему сил и изгнание их (Гете говорит где-то о «принципе рассудочного порядка», который мы носим в себе, который мы можем запечатлеть как знак нашей власти на всем, что нас окружает); если всякий закон является оковами, налагаемыми страхом перед миром на вторгающиеся в наше сознание чувственные впечатления, глубочайшим средством самозащиты, применяемым жизнью, – то концепция времени как величины, однородной с величиной протяжения, есть последующий акт той же самозащиты, попытка заклясть силою понятия мучительную внутреннюю загадку, противоречащую достигшему господства рассудку и потому для него совершенно невыносимую. Духовный акт, при помощи которого мы вынуждаем явление войти в состав формального мира меры и закона, всегда является актом затаенной ненависти. Относя живое в мертвое и мертвящее пространство, мы убиваем его. В рождении заключена смерть, в осуществлении – бренность. В этом смысл Элевсинских мистерий, с их перипетией от плача к ликованию, которую Эсхил, происходивший из Элевсина, ввел впоследствии в аттическую трагедию7. Когда женщина беременеет, в ней нечто умирает. Вечная ненависть одного пола к другому, рожденная страхом перед миром, находит здесь свое основание. Рождая, человек что-то уничтожает в глубоком смысле этого слова: в акте плотского рождения – в чувственном мире, в акте «познания» – в духовном. Обнаруживающаяся здесь связь была знакома уже мифическому мироощущению младенческих эпох. Еще у Лютера слово «познать» означает также половое совокупление (Адам «познал» свою жену). Давать имя чему-нибудь означает приобретать власть над получившим имя предметом – это существеннейший элемент первобытного искусства волхвования. Человек ослаблял или убивал своего врага, проделав над его именем определенную магическую процедуру. Кое-что от этого примитивного выражения страха перед миром сохранилось в склонности всякой систематической философии отделываться от непостижимого, от подавляющего дух своею мощностью при помощи понятий, а то и просто путем слов. «Философия», любовь к мудрости, есть в то же время страх перед непонятным и ненависть к нему. Что названо, понятно, измерено, то преодолено, окаменело, стало табу. Еще раз: «знание – сила». Здесь глубочайший корень различия идеалистических и реалистических мировоззрений. Оно соответствует двойному смыслу слова «боязливый» (scheu). Идеалистическое мировоззрение возникает из робкого благоговения, реалистическое – из отвращения (Abscheu) к недоступному. Одни созерцают, другие стремятся подчинить, механизировать, сделать безвредным. Платон и Гете приемлют тайну, Аристотель и Кант стремятся ее уничтожить. Замечательнейшим примером этой подоплеки всякого реализма служит проблема времени. То страшное, что содержится во времени, сама жизнь, должно подвергнуться здесь заклятию, быть уничтожено магиею понятности.
Ознакомительная версия.