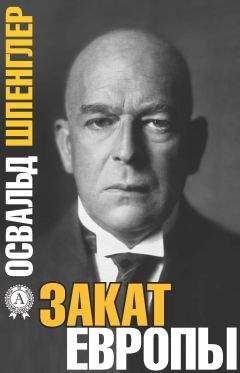Ознакомительная версия.
Все сказанное служит также опровержением широко распространенного популярного недоразумения, которое крайне тривиальным образом связывает время с арифметикой, а пространство с геометрией; Канту не следовало бы впадать в это недоразумение, между тем как от непонятливости Шопенгауэра по отношению к математике едва ли можно было ожидать чего-либо другого. На том основании, что живой акт счета каким-то образом соприкасается с временем, теоретики, очарованные схемой, неизменно смешивают число с временем. Но счет не есть число, так же как процесс рисования не есть рисунок. Счет и рисование суть становление, числа и фигуры – ставшее. Кант и другие в одном случае приняли во внимание живой акт (счет), в другом – его результат (формальные отношения готовой фигуры). Первый принадлежит к области жизни и направленности, второй – к области протяженности и причинности. Вся математика, то есть, выражаясь популярно, арифметика и геометрия, отвечает на вопрос «что?», то есть на вопрос о естественном порядке вещей. В противоположность этому «когда?» есть специфически исторический вопрос, вопрос о судьбе, будущем, прошлом. Все это заключено в слове» счисление времени», которое наивный человек понимает совершенно правильно. Причинность самым тесным образом связана с миром чисел – при помощи ли функции в западноевропейской культуре или при помощи величины в античном мире. Физика и математика переливаются друг в друга (в чистой механике). Время, судьба, история стоят совершенно вне круга этих понятий. К ним принадлежит хронология.
Между арифметикой и геометрией нет никакой противоположности8. Всякая идея числа – это было в достаточной степени показано в первой главе настоящей книги – в полном своем объеме принадлежит области протяженного и ставшего, будь это эвклидовская величина или же аналитическая функция. В самом деле, к какой из двух областей должны принадлежать циклометрические (круговые) функции, бином Ньютона, римановские плоскости, теория групп? Схема Канта была опровергнута Даламбером и Эйлером уже раньше, чем Кант ее составил, и только незнакомство послекантовских философов с математикой своего времени (в этом отношении они представляют противоположность Декарту, Паскалю и Лейбницу, которые сами создали математику своего времени из глубин своей философии) послужило причиной, что эти в значительной мере ученические взгляды на отношение «пространства и времени» к «геометрии и арифметике» передавались по наследству в почти не затронутом виде. Но становление не имеет никакого касания ни к одной области математики. И даже глубоко обоснованное предположение Ньютона, который был очень дельным философом, будто принцип открытого им дифференциального исчисления (флюксионного исчисления) позволяет ему непосредственно схватить проблему становления, то есть проблему времени (во всяком случае, в гораздо более тонком понимании, чем кантовское), не могло удержаться в силе, как оно ни модно в настоящее время среди философов. При возникновении ньютоновской теории флюксий решающую роль сыграла метафизическая проблема движения. Однако с тех пор, как Вейерштрасс доказал, что существуют непрерывные функции, которые только частично дифференцируются или даже вовсе не могут быть дифференцированы, отпала и эта, самая глубокая из всех когда-либо предпринятых попыток математического подхода к проблеме времени.
11.
Время есть соотносительное понятие. Здесь впервые мы касаемся своеобразной логической продукции весьма важного значения. Неспособный включить чувство судьбы в мир своих форм, рассудок, исходя из пространства, конструировал, как его логический коррелят, понятие «время» («не-пространство»). У нас не было бы ни этого слова, ни совершенно превратного содержания, связанного с ним и привычного для нас как для существ, мыслящих в устойчивых формах, если бы наша душа не была соблазнена мощным стремлением к понятности (к заключению в оптические границы). Отсюда следует, что античный дух, подчинявший протяженность, как мы увидим дальше, совсем другой символике, чем наша, соответственно этому и время представлял себе совершенно иначе. Но мы никоим образом не можем выразить в понятиях, что же именно вместо нашего «времени» преподносилось в аналогичных случаях аполлоновскому человеку.
Проблема пространства является, следовательно, единственной задачей всякой точной науки, которая занимается исключительно ставшим, стремясь без остатка расчленить его имманентную необходимость в форме математически трактуемого принципа причинности. С этой точки зрения существуют только естественные науки, к которым принадлежат также логика и гносеология. Их связывают всем им одинаково присущее чувство страха перед миром и тождественная цель, а именно – изгнание и заклятие чуждого при помощи незыблемых законов. Недоступная науке идея судьбы, кроющаяся под словом «время», принадлежит к области непосредственных переживаний и интуиции.
В каждом произведении искусства, раскрывающем всего человека, весь смысл бытия, заключены одновременно страх и искание. Теория искусства это хорошо почувствовала. В качестве «содержания» неизменно пытались рассматривать те элементы, которые изображают направленность, судьбу, жизнь, искание, а в качестве «формы» – протяжение, дух, основание и следствие, страх. Протяженное, оформленный элемент, выражает собою элементарную символику каждого искусства. Сюда относится, следовательно, все то, что называется каноном, школой, условностью, техникой, все рассудочно-понятное, последовательное, изучимое, измеримое числом в линии, краске, звуковом тоне, строении, порядке; изложенное Поликлетом каноническое расчленение обнаженной статуи, внутренность готического собора и египетской усыпальницы, искусство фуги. Все это виды одной тектоники. Все они стремятся заключить чувственный материал в застывшую, «вечную», то есть вневременную, форму.
Архитектура большого стиля, единственное из всех искусств, имеющее дело с самою чуждою и внушающею страх стихиею, с непосредственно протяженным, с камнем, является, следовательно, как это ясно само собою, самым ранним искусством всех культур, которое только постепенно уступает место более одухотворенным искусствам ваяния, живописи, композиции, с их непрямыми средствами формования. Микеланджело, который из всех великих художников Запада, несомненно, сильнее других испытывал постоянное гнетущее чувство страха перед миром, был поэтому единственным из мастеров Возрождения, никогда не освободившимся от архитектурности в своем искусстве. Он даже писал так, как будто красочные поверхности были камнем, ставшим, застывшим, ненавистным. Его приемы работы представляли собой ожесточенную борьбу с враждебными силами космоса, выступавшими перед ним в виде материала, тогда как краски всегда жадно искавшего Леонардо действуют как добровольноевоплощение душевного. Но в каждой проблеме архитектурной формы чувствуется строжайшая логика, даже математика, будь это эвклидовское отношение опоры и тяжестив античных ордерах колонн или же динамическое отношение силы и массы в «аналитически» конструированных фасадах барокко. Знаменитая контроверза Канта и Юма об априорности причинности, которая послужила поводом появления «Критики чистого разума», внутренне родственна многим проблемам художественной формы. Символика же направленности, судьбы стоит по ту сторону всякой механической «техники» великих искусств и едва ли доступна формальной эстетике. Она заключается, например, в постоянно чувствовавшемся, но никем, даже Лессингом и Геббелем, не разъясненном противоречии античной и западноевропейской трагедии, в веренице сцен древнеегипетского барельефа, вообще в рядами идущем расположении египетских статуй, сфинксов, храмовых зал, в выборе диорита и базальта, при помощи которых утверждается долговечность и будущее, в противоположность дереву раннегреческих скульптур, в жестах статуи Фидия, подчеркивающих настоящее и исключающих всякую мысль о прошлом и будущем, в противоположность стилю фуги, растворяющему отдельное мгновение в бесконечности. Ясно, что все это относится не к косной «технике», но к «гению», не к возможности, но к необходимости, неволящей художника, не к механической форме художественных созданий, но к самому живому акту творчества. Не математика и абстрактное мышление, но история и великие искусства – с прибавлением к ним великого мифа – дают ключ к проблеме времени.
12.
Из сказанного здесь о смысле культуры как первофеномена и судьбы как органической логики бытия следует, что каждая культура необходимо должна иметь собственную идею судьбы; больше того: это следствие уже заключено в ощущении, что всякая великая культура является не чем иным, как осуществлением и образом одной-единственной определенной души. То, что мы называем стечением обстоятельств, случаем, роком, судьбой; что древние называли Немезидой, Ананкэ, Тюхе, Фатумом, арабы Кизметом, а другие еще иначе; чего никто не в состоянии дать почувствовать человеку другой культуры, жизнь которого является выражением своей собственной идеи; что не поддается никакому более точному описанию при помощи слов, – представляет именно этот однажды данный, никогда не повторяющийся способ постижения мира душою, который каждый из нас считает за вполне достоверный.
Ознакомительная версия.