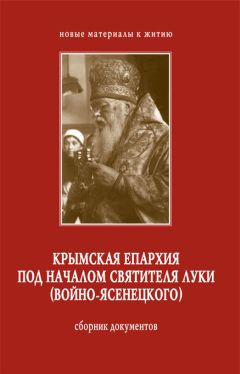Форш Ольга Дмитриевна
Для базы
ОЛЬГА ФОРШ
Для базы
РАССКАЗ
I
- Дьякон то наш, из Дубовой Луки, дьякон Мардарий живцом стал!
Как-же: и Марфа Степановна, и управдом Сютников, и Петька Козырь все выследили, все удостоверились, - переодевается.
Едва на столбах афиши: "совместное выступление"... звезды первой величины - один протоирей - другой протоирей, а приглашенные шрифтом помельче, - дьякон сейчас - пиджачишко, полу-галифе, самоделку с ушами и по черному... И в указанной зале собранья со всеми вотрется.
Однако Марфа Степановна способ нашла, как особу духовного звания и в перелицовке признать. Гриб подосиновик, хотя в какой гущине, а изо всех краснеет, так и церковники из живцов. Кто к длиннополой одеже привык, как обкарнается, сейчас наровит колени ладошками прикрывать; то ли ему поддувает с непривычки, то ли конфузно ему, - не иначе раздетый.
Вот по этой ручной замашке и ловили прихожанки переодетых церковников: без обману. А поймают - раскалятся. Они и сзади подберутся гвоздить и вдогонку ему шепотком: живец, балтист, подосиновик...
Раз Петька Козырь с другим зефирщиком с Васильевского острова до самого до дому затеял дьякона потравить, да на пути другой секрет его и открыл.
Дьякон-то, ведь, не домой, а в "Кафе-Козерог" как стрельнет! А назад и нет дьякона.
- Эге, выследим, - сказал Петька другому зефирщику, пока, что папиросками торганем.
- Сафо толстая, зефир трехсотай, гражданс-ки-я!
Часа два надсаживались, чуть дьякона не зевнули.
Да полно, дьякон ли это Мардарий? Глаза углем обведены, на щеках красные пятна, как у клоуна в цирке, в воротник бороденкой ушел, нахлобучился поскрытней, и по заячьи...
Визганул Петька Козырь и с зефирщиком к Марфе Степановне: - готовьте, буржуйка, сахару - сообщение первой важности! Дьякон Мардарий в "Кафе Козерог" нумера распапашился выполнять.
- Эх, яблочко да мелкарублено,
Не целуй, клеш, под нос, я напудрена.
- Врешь, Петька, это уж обязательно врешь, и в радости Марфа Степановна к дверям у дьяконицы распытать.
- А ты, Петька, иди, иди! пока не украл!
- Скажи курице, она сейчас улице, - огрызнулся Петька, а сахар то где?.. И за дверью оба: буржуйка саботажная!
А когда в темноте, нахлобучившись, бороденка в воротник, дьякон как тать пробирался к себе, на все этажи свиснул Петька с зефирщиком:
- Дьякон живец - твой антихрист отец!
Выпуская гостя, управдома Сютникова, вышла Марфа Степановна за порог своей двери, плюнула перед дьяконом, растерла калошей, хлопнула с сердцем задвижкой, насадила крючок и дважды с музыкой щелкнула ключ - будто от громилы, оборонялась от дьякона.
А гость ее, управдом, он же богоспец Сютников, отступая на шаг и пряча за спиной руки, сказал:
- Дьякон, дьякон, как дошел ты до жизни такой?
Дома дьяконица, с обвязанной щекой, бессонная, над больной пеленашкой, жадно схватила протянутую дьяконом, распухшую от обращения, красную столимонку, положила ее на стол и притиснула сверху холодный утюг. И молчала дьяконица. Молчал и дьякон.
II
Дьякон Мардарий в Дубовой Луке и родился, и на лето из семинарии приезжал, и женился, и с дьяконицей своей двух детей народил. Одно в военное время, другое под временным - оба вскормлены как у людей: на материнском молоке, да на коровьем. И лишь только третье - окончательно революционного времени - подымалось на "сгущенном" и на белой крупе из посылки "Ара".
Не любят получающие арийцы стекловидную эту крупу, ею рынки завалены, она ходит дешевле пшена.
Родилась эта третья дьяконова пеленашка в столице. И совсем бы ей при такой бедности не рождаться! Что поделаешь: от абортной ориентации скромная дьяконица в стороне, а многоплодье в духовном кругу, как было, так и есть статья неподдекретная.
Но зачем было дьякону из Дубовой то Луки да в столицу?
Жил он на селе, немудрящий, мужиками любимый. И дед и отец Мардария, в той же Дубовой Луке были священниками.
Чудной народ мужики: деда Мардариева, хмельного попа и ленивого, так любили, что пред благочинным
за него распинались, когда бывало по пьяному делу между ектеньями не такое словечко ввернет, а доносчик растебенькает. Запрутся на опросе, покроют: - окромя божественных, не было слов...
А вот на отца Мардарьева, на академика, на постника, как снег челобитныя: не продохнуть от попа, убери, владыко!
Развел благочинный руками: старому пьянице потакали, а тут ака-де-мик...
- Старый поп деревенцами не гнушался: службу скоро правил, грехов не тянул. Этот же после обеденки еще "слово" норовит, а что не пьет, - кишка у него тонка, нам это даже совсем не угодно.
Мардарий весь в деда: и хохотун, и простец, и с ранних лет, на свадьбе ли, на хресьбинах - любит стаканчик глушить. Приятель и кум, Захар винокур, бывало сахару в водку сыпнет, перстом размешает, в чайной чашечке поднесет: пей сладимую, слаще жить!
С Захаром и с другими парнями хаживали в Ордынок - монастырь. Пели поминаньица: родителей за копеечку, родню за денежку. Заводил тонко Мардарий:
Папеньку родного,
Маменьку родную,
Папеньку хресного
Маменьку хресную...
Весь день собирали, ввечеру пропивали. Нравилось вечером в реке раков ловить на лучину, река от заката - плавленное золото, задолго придешь, любуешься. Монастырь нравился тихий, рабочий, с диковинно-росписанными образами.
Во всю стену хватил художник от Матфея главу седьмую: "и что ты смотришь на сучок в глазе брата
своего..." И бревно из глаза осудителя - агромадное, четверо надуваются, еле держат. А другой образ-радостный: "и взыграша младенец". Чрево у Елизаветы взято в разрез, и нагой младенец в нем на скрипке играет.
И вот эти два образа - вся наука Мардарию. Умом не хитер, сердцем берет. А для сердца тут все: от Христа ему радостно, как младенцу во чреве. А урок его главный-то: к брату, к ближнему - свое бревно помни, другого не ешь. И оттого, что Мардарию вся мудрость тут, на Ордынской стене, по книжкам в семинарии шел плоховато, уж куды в академию!
Отец умер, и Мардарий в той же церкви стал дьяконом. Женился, обзавелся хозяйством; и век бы ему, как отцу, и как деду - тут вековать. Хотя бы и революция? Что же особенного? - Перемена правительства - другое поминовение, а служба та же, и тот же храм. А хоть волнения кругом не избыть, тому, кто смирно сидит, об одном иждивении рук своих промышляет, тот и сыт, тому и хлопот больших нет. К тому же Мардарий - всего дьякон, и за все про все в ответе не он, а священник.
И вот опять: зачем дьякону в такое-то внезапное время из насиженной Дубовой Луки, да в столицу?
--------------
Еще было начало революции. Еще кричали по России приказы: - Я, Керенский, я...
Еще могли быть и такие и эдакие мнения, а по железным дорогам шла демобилизация.
Первоначально, дьякон Мардарий втиснулся в туго набитый вагон, без всякого особенного мудрования, по одной лишь фамильной надобности: поехал в уездный город к собственной теще на предмет обмены сырья на мануфактуру.
И ничего с ним в вагоне и не было кроме обычного в такое время разнообразия разговоров, а вот подите ж: поехал один человек, воротился другой.
III
В вагоне, на нижнем диване, друг против дружки - собеседники. Один говорит, другой слушает; от него дьякону видно на лоб свисший чуб, усы, бородка. А рассказчик, участник московского собора, с побывки едет опять на собор - он виден весь. Небольшого роста, судя по широким плечам, недавно еще плотный, сейчас страшно измученный, почти больной человек. Речь его для дьякона необыкновенна. Не столько словами, а как то всем существом, движеньем коротких пальцев, напряженным, вдаль глядящим взглядом - вызывает он, показывает то, о чем говорит.
- Владыко воронежский, владыко тамбовский... и замрет. Ну, что-ж, зазорного в этом владыке нет ничего, росту крупного, крест над кафедрой золотится, голос-бас. И хозяин... по докладу видать. Главное дело - хозяин.
- Ну, владыко такой то...
Помолчит. Словно ищет в новом имени то драгоценное, чего хочет душа, чего не назвать ему словом.
Дрогнули губы, короткими пальцами скорбно развел: на нет, дескать, и суда нет. И другой напротив подперся, чуб свесил, сокрушен как от тяжкого горя:
- Что ж, и в этом зазорного ничего. - Ростом пониже, не ходит - бегает, и к "молочникам" лют.
Дьякон смешливый как прыснет:
- Молочники! Это те, что в пятницу чай с молоком?
На минуту обернулись оба на дьякона.
- Извиняюсь, - сказал по новому Мардарий, - я из Дубовой Луки, мы там в темноте, на счет хода событий...
- Какие события, пока одна ябеда: "крючки" в буфете шмыгают. Особам наушничают, а особы нас профессоров, этак с занозой: "достопочтенные"...
Долго, истово, с страшной внутренней напряженностью, и оттого как бы внешней бедностью, необыкновенно ведется рассказ. И верит дьякон расказчику; не только видит, как видел тот, но вместе с ним и сам скорбит о чем то таком заветном... а о чем? И не назвать. Дивится Мардарий: вольный человек, а поди ж ты как за наше за церковное, болеет душой. Осмелел, говорит: