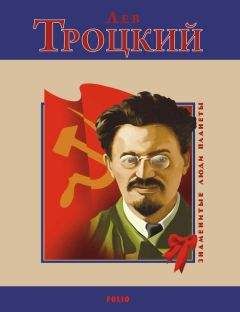Троцкий Лев Давидович
О Леониде Андрееве
Л. Троцкий
О Леониде Андрееве
Когда присматриваешься к чисто вымытым и гладко выбритым физиономиям рассказов, повестей и романов, которые делают толстыми наши "толстые" журналы, когда пробираешься сквозь толпу наших молодых, подающих и начинающих оправдывать надежды, небезызвестных, почтенных, маститых и просто бездарных беллетристов, рождается мысль, что жизнь истощена, исчерпана до дна великими мастерами образного слова, что не осталось у нее явлений, комбинаций и положений, которые бы не подвергались уже творческой переработке, что вся художественная литература обречена на имитации и перепевы.
У лиц, на журнальных заставах критическую команду имеющих, естественно вырабатывается поэтому недоверчиво брюзжащий тон по отношению ко всем начинающим писателям: "видали!"..
Но приходит талант и кончиком своего пера поворачивает на несколько градусов заношенные факты и явления жизни вокруг их оси, бросает на них луч солнечного света с какой-нибудь неожиданной стороны, и приевшееся, набившее беллетристическую оскомину кажется полным нового захватывающего содержания.
Большому таланту прощается даже молодость - преимущество в иных делах, но не в литературе.
Вот почему, когда Леонид Андреев* прошел по литературному полю молодыми, но тяжелыми шагами, почтенные аристархи и даже злостные зоилы, за немногими исключениями, отчетливо приветствовали его своими критическими алебардами.
/* Леонид Андреев. Рассказы. Издание второе. 1902. Книга посвящена Алексею Максимовичу Пешкову.
И Леонид Андреев не затерялся в пестрой и все же однотонной толпе своих "коллег". Он вышел со своим маленьким сборником в руках и сказал: я сам по себе!
И читатель отличил его и потребовал второго издания.
В небольшом томике собрано шестнадцать рассказов. Первый из них написан в июне 1899 года. Последний - в январе настоящего года. Рассказы, разумеется, разного достоинства, но все в один голос свидетельствуют, что г. Андреев "сам по себе". И свидетельство сие истинно.
Студент Сергей Петрович ("Рассказ о Сергее Петровиче"), которому не удавалась жизнь, но удовлетворительно удалась смерть, особенно терзался мыслью, что он только материал, только объект, только ступенька.
Приходят одни - художники, сильные и одаренные, и на Сергее Петровиче создают себе славу. Они оголяют его душу и жизнь его души, они описывают его горе так, чтобы люди плакали, и радость так, чтобы смеялись.
Приходят другие - критики и, пользуясь Сергеем Петровичем, как анатомическим и психологическим препаратом, рассуждают по написанному первыми, "откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких".
А он, Сергей Петрович, и для тех и для других только объект, только материал, только ступенька.
Отойдем, однако, в сторону от несчастного ученика Ницше (Сергей Петрович увлекался проповедью Заратустры) и поставим общий вопрос, можно ли на основании писаний Леонида Андреева разрешать "публицистические" проблемы: откуда берутся люди, подобные его героям? куда деваются? как поступать, чтоб их не было? или, наоборот: чтоб их было больше?
Ответом на эти вопросы будет... "Молчание".
Что-то страшное врезалось в жизнь Веры во время ее пребывания в столице, искалечило ее душу и отняло у нее радость существования. Безмолвно изнывает она в родном доме. Ни перед отцом-священником, ни перед матерью она не обнажает сочащихся язв своей души... Недолго, впрочем, они осаждают ее расспросами: Вера бросается под поезд. Мать ее разбита параличом. Остается старик-священник с мучительной загадкой: что сгубило Веру и вместе с нею жизнь всей семьи?
Тщетно вызывает старик образ унесенной дочери, чтобы добиться признания. Тщетно обращается он к несчастной матери, которую паралич лишил языка. Отовсюду отвечает ему молчание. Молчит дом, молчит сад... Даже веселую желтенькую канарейку кухарка выпустила на волю, чтобы не томить в клетке "барышниной душеньки"...
Этот рассказ, на котором, к слову сказать, можно было бы демонстрировать законы художественного такта, этот рассказ - весь писатель, весь Леонид Андреев, каким он является теперь, на заре своей деятельности и своей славы.
Он почти совершенно устраняет объективную, социальную сторону жизни своих героев.
Он преднамеренно обрезывает большую часть проводов, связывающих их с внешним миром. Центр его художественного внимания - индивидуальная душа, преимущественно в моменты острого переворота, когда повседневные настроения освещены заревом необычного, трагического чувства, чаще всего - ужаса.
Лишь по имени назван в рассказе Петербург, убивший молодую девушку, бледной тенью проходит сама Вера, двумя-тремя штрихами - превосходными штрихами! - намечены добродушная старуха мать и крутой сребролюбец поп... В главном фокусе рассказа стоит душа отца Игнатия в момент краха семьи. Глазами ужаса озирается эта душа, ввергнутая какой-то безыменной слепой силой, каким-то разрушительным ураганом во тьму одиночества и молчания.
Здесь нет места публицистическому критерию: произведение не имеет общественных измерений. Оно все, - с начала до конца, - цельный психологический "сгусток".
Вот почему, когда мы приступим к Леониду Андрееву с примерно указанными выше вопросами, ответом на них будет молчание.
Возьмем другой, менее сильный рассказ "В темную даль".
В "культурную" жизнь богатой семьи врывается, как порыв вихря через плохо закрытое окно, "он", блудный сын, высокий, сумрачный и загадочно-опасный, после безвестного семилетнего отсутствия.
Как и несчастная Вера, пришлец не отвечает на вопросы о своем прошлом. Он вырастает пред родной семьей сильный, как стихия, и, как стихия, непонятный. Все интересы, радости и горести родных ему людей он замораживает холодом своего отрицания. Он ненавидит всю их жизнь "от самого дна и до самого верху", ненавидит и не понимает.
Кто он, и что он, мы определенно не знаем, и не в нем суть. Смысл произведения в том невыносимом настроении острой тревоги, напряженной смуты, которое он вносит в душу семьи. Все дышит воздухом затаенной тоски и "суеверного страха", ледяной волной прокатывающегося по дому.
Изящные лепные безделушки от прикосновения его руки меркнут и превращаются в бездушные комки глины, краски тускнеют на незаконченной картине молоденькой сестры, безмолвствует говорливый рояль... А "он", суровый скиталец, внесший все это потрясение, не понимаемый ими и непонимающий их, погружается снова в ту же темную зловещую неизвестность, которая на мгновение выбросила его.
И так почти везде. Два-три замечательных по энергии и меткости реалистических штриха создают "материальный" остов, внутри которого Леонид Андреев производит свой поразительный психологический эксперимент: внешний стихийный удар родит в груди его героев взрыв необычайного, "героического" чувства, которое, как вспышка магния, освещает убаюканную жизнью душу ненормальным, но ослепительно ярким светом.
Роль слепой силы, высекающей из дремлющей души сноп пламени, играет у Андреева чаще всего смерть.
Это слишком понятно. Какому строгому статистическому учету мы ни подвергали бы ее жертвы, какими биологическими, метафизическими или мистическими системами мы ни пытались бы примирить с ней свое сознание, смерть всегда обойдет эти "уловки", всегда сумеет застигнуть врасплох и сотрясти души трепетом ужаса. А это и есть тот психологический эффект, которого ищет Л. Андреев.
Смерть фигурирует в первом по порядку рассказе "Большой шлем".
Четыре человека играют в винт, играют лето и зиму, весну и осень. Три раза в неделю собираются они, чтобы подышать несколько часов жгучим воздухом картежного азарта. Эти четыре партнера - четыре разные души, четыре индивидуальности, различно относящиеся к игре и к картам.
Живее всех толстый Николай Дмитриевич Масленников. Он больше всех рискует и чаще всех проигрывает. И в этом постоянном единоборстве Николая Дмитриевича с фатумом винта, большой бескозырный шлем стал для него предметом самого сильного желания. Долго, уж несколько лет, Масленников ждет его, лелеет грезу о нем.
И вот, в один из вечеров, на руках у Масленникова оказывается весь причт, какой полагается для "большого шлема в бескозырях", кроме пикового туза. Если этот туз в прикупе, тогда...
Николай Дмитриевич протянул руку, но покачнулся, повалил свечку и упал на пол. "Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и, в утешение живым, сказал несколько слов о безболезненности такой смерти".
Масленников умер, и черные крылья ужаса распростерлись на некоторое время над комнатой, в которой люди сосредоточенно играли лето и зиму, весну и осень.
"Одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича... (один из игроков).