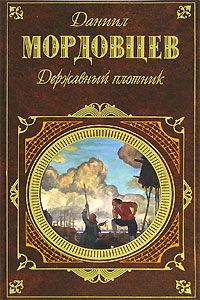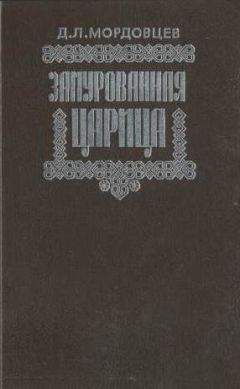Ромодановский презрительно пожал плечами.
- Вишь, богослов какой выискался! И про великого государя в тех книгах Божественного писания сказано именно?
- Сказано, точно.
- Так и сказано, государь-де, царь Петр Алексеевич всея Русии?
- Нет, сказано не так, а сказано: восьмой царь и будет антихрист, а он и есть восьмой царь.
- Ну, придется, видно, "коптить" тебя.
- Ради мученического венца и "копчение" претерплю - Христос и не то терпел.
- Добро-ста, приравнивай себя ко Христу, - пробормотал князь-кесарь.
Далее в "розыскном деле" Преображенского приказа по делу Талицкого в "расспросных речах" записано:
- "Он же, Ивашка-иконник, в расспросе и с третьей пытки говорил: кроме-де Гришки Талицкого и пономаря Артемошки Иванова иных единомышленников никого нет, и тех писем, которые у него взяты, никому он не показывал и на список за деньги и без денег никому он не давал и у иных ни у кого в доме таких писем не видывал".
Привели в застенок пономаря Артемошку. Снова в ход пошли кнут и дыба...
И приказный строчит в "расспросных речах":
"Артемошка в расспросе и с пыток говорил:
- Про письма, которые взяты у Ивашки Савина, я ведал и в совете с Гришкою и с Ивашкою Савиным был, и разговоры у нас об антихристе бывали.
После третьей пытки пономарь Артемошка молвил:
- Он, Гришка, со мною, Артемошкою, и с Ивашком-иконником бывал у тамбовского архиепискупа (иногда он записан "епископом"), и Гришка ему, архиепискупу, книги писал, и как он, Гришка, ту книгу об антихристе к нему, архиепискупу, принес, а архиепискуп, приняв ту книгу, говорил: "Бог-де весть, правда ль то письмо".
Мало трех пыток! Повели к четвертой...
Записано:
"Артемошка с четвертой пытки говорил:
- В тех воровских письмах советников нас было трое: Гришка Талицкой, я, Артемошка, и Ивашка-иконник, и те письма толковали мы вместе, а пуще у нас в том деле, в толковании, был Гришка Талицкой, и я, по тем его словам, в том ему верю..."
- Веришь! - даже вскрикнул Ромодановский. - Веришь, что великий государь, царь Петр Алексеевич всея Русии антихрист! Веришь!
- Верю: антихрист.
Ромодановский вышел из застенка в приказ, просмотрел допросы других привлеченных к делу и снова вернулся в застенок.
Пытаемый продолжал висеть на дыбе с вывихнутыми руками.
- Кто был твоим духовным отцом? - спросил князь-кесарь.
- Варламьевской церкви поп Лука, - был ответ.
- И он ведал про твое воровство?
- Ведал... на духу я ему про антихриста исповедовал.
- И что же он?
- Он сказал: времена-де и лета положил Бог своею властию и тебе-де и Гришке про те лета почему знать?
- А ты ему что ж на то?
- Времена и лета, говорю, исчислены в книгах.
- В каких?
- В "Апокалипсисе", у Ефрема Сирина, и Талицкий все сие на свет вывел.
12
В дело об антихристе, кроме тамбовского архиепископа (или епископа) Игнатия, была замешана еще одна видная, по своему общественному положению, родовитая личность.
Это "боярин, князь Иван, княж Иванов сын, Хованской", как он записан в деле об антихристе.
Князь Иван Хованский, знаменитый "Тараруй", кровавым метеором пронесся над Москвою во время малолетства будущего творца новой России, стоя во главе стрелецких смут. Стрельцы намеревались даже возвести его на престол!
Голову этого Хованского, которая мечтала о царском венце, в последний раз Москва видела на плахе, откуда она скатилась на помост эшафота...
Теперь сын этого Хованского сидел в отдельном каземате Преображенского приказа, ожидая своей очереди.
Сидя в одиночном заключении, он невольно вспомнил страшные картины, которых он был зрителем.
Он видел, как подвезли отца к царскому дворцу села Воздвиженского. Несчастный претендент на царский венец был связан. В воротах показались сановники и уселись на скамьях... Шакловитый читает обвинение. Обвиняемый что-то говорит... Но ему не дают оправдаться... Стрелец стремянного полка на полуслове отрубает ему голову... За головою отца падает под топором и голова брата...
Вспоминается узнику еще более страшная, потрясающая картина... По Москве двигается похоронная, невиданная процессия... На санях-розвальнях, в которых вывозят из Москвы снег и сор, стоит гроб, и гроб волокут свиньи, запряженные цугом в мочальную сбрую, с бубенчиками на шеях и в черных попонах с нашитыми на них белыми "адамовыми головами"... Около свиней идут конюхи, в "харях"... Свиньи визжат и мечутся, и конюхи их бьют...
Это везли в Преображенское вырытый из могилы гроб Милославского, друга его отца...
Впереди процессии и рядом с свиньями в черных попонах идут факельщики с зажженными просмоленными шестами, а вместо попов палачи с секирами на плечах... Тут и скороходы, наряженные чертями, рога у них и хвосты, и черти погоняют визжащих свиней, а другие пляшут вокруг гроба... Вместо погребального перезвона "на вынос" черти колотят в разбитые чугунные котлы... Ко гробу, во время остановок, вместо совершения литии, подходил сам Асмодей с кошельком Иуды в руках, позвякивая "тридесятью сребренниками" и колотя по крышке гроба жезлом с главою змия, соблазнившего Еву в раю...
Процессия приближается к Преображенскому, где уже возвышается плаха... Несколько в стороне от эшафота высится на коне великан... Это о н с а м... Около него Меншиков, Голицын Борис, Ромодановский, Лефорт, Шеин...
Гроб подкатывают под навес эшафота, и палачи топорами отдирают крышку от гроба... Оттуда выглядывает ужасное лицо мертвеца... К гробу подходит Цыклер, за ним - седой как лунь Соковнин, тоже друзья его отца...
Дьяк что-то читает... Мало что слышно... Кругом сцепенелая от ужаса толпа...
- Вершить!.. - прорезывает воздух голос с а м о г о...
Палачи подходят к Цыклеру, но он тихо отталкивает их и сам всходит на эшафот.
- Православные! - кричит он. - Рассудите меня...
Но дробь барабана заглушает его слова...
- Вершить!.. - пересиливая грохот барабана, как удар кнута, потрясает воздух опять е г о голос...
Палачи бросили осужденного на плаху...
- Верши! - е г о страшный голос...
В воздухе сверкает топор, и голова Цыклера, страшно поводя глазами, скатывается прямо в гроб Милославского...
На эшафоте и Соковнин...
- Верши!
Опять топор... опять кровь...
Все это вспоминается теперь Хованскому в его одиночном заключении...
- Господи! Камо бегу от лица е г о, - стонет несчастный. - Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука е г о сыщет мя.
Он поднялся с рогожки и подошел к тюремному окну, переплетенному железом. За окном сидел воробей и беззаботно чирикал.
- Это душа отца моего, посетившая узника в заточении, - шепчут его губы.
Под окном прошел часовой, и испуганная птичка улетела. Узник стал на колени и поднял молитвенно руки к окну, в которое глядел кусок тусклого ноябрьского неба:
- Боже мой! Боже мой! Вскую мя еси оставил!
Под окном прокричал петух.
- И се петел возгласи, - бессознательно шептали губы.
Взвизгнул ключ в ржавом замке, и тюремная дверь, визжа на петлях, растворилась. Это пришел пристав вести узника к допросу.
Едва он вошел в приказную комнату, как дьяк, по знаку князь-кесаря, развернул допросные столбцы и стал читать:
- "На тебя, боярин князь Иван, княж Иванов сын Хованский, Гришка Талицкий показал: на Троицком подворье, что в Кремле, говорил ты, боярин, Гришке: бороды-де бреют, как-де у меня бороду выбреют, что мне делать? И он-де, Гришка, тебе, князь Ивану, молвил: как-де ты знаешь, так и делай".
- Подлинно на тебя показал Гришка? - спросил уже Ромодановский. - Не отрицаешь сего?
- Подлинно... не отрицаю, - покорно отвечал князь.
- Чти дале, - кинул Ромодановский дьяку.
- Да после-де того, - читал дьяк, - он же, Гришка, был у тебя, князь Ивана, в дому, и ты-де, князь Иван, говорил ему, Гришке: Бог-де дал было мне мученический венец, да я потерял: имали-де меня в Преображенское, и на генеральном дворе Микита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали-де мне для отречения столбец, и по тому-де письму я отрицался, а во отречении спрашивали, вместо в е р у е ш ь ли, п ь е ш ь ли? И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил и лучше б-де было мне мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить*.
_______________
* Это место в розыскном деле о Талицком не совсем понятно.
Вероятно, знаменитый старик Никита Моисеевич Зотов, приближенное лицо
к царю и носившее сан спатриарха всепьянейшего и всешутейшего
собора", ввиду раскольничьих убеждений князя Хованского, "шутейно", в
качестве шутовского патриарха, возводил Хованского в чин шутовского
митрополита и велел ему совершить от чего-то отречение. Тот и прочел
отреченный "столбец". А затем Зотов и спрашивал его по сочиненному
самим царем чину посвящения в члены "всепьянейшего и всешутейшего
собора". (Здесь и далее примеч. автора.)
- Говорил ты таковые слова? - спросил князь-кесарь.