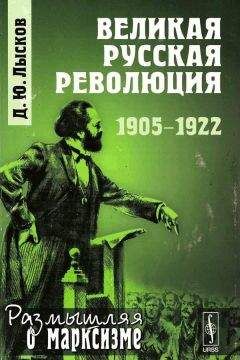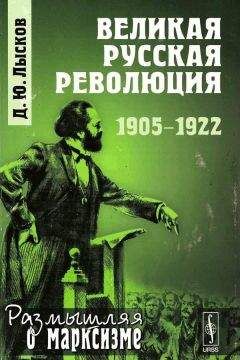Кибальчич, упоминая текст «Очередных задач…», не акцентирует внимание, что речь в работе идет именно о единовластии на производстве. Для него, как для анархиста, это не существенно — Ленин отринул идеи «демократизма», рабочего контроля и избранных органов. Не существенны для него и обстоятельства, в которых это происходит. Но вслед за ним современные авторы, не вникнув в суть спора, заявляют: «В «Очередных задачах Советской власти» Ленин сделал очень серьезный шаг к легализации мысли о политической диктатуре, заявив, «что диктатура «пролетариата» может осуществляться и осуществляется через диктатуру отдельных лиц». В другой работе читаем: «Ленин утверждает, что никакого принципиального противоречия между советским демократизмом и диктаторской властью одного человека над страной нет, что это совместимые понятия».
Ошибка крылась уже в подходе левой оппозиции, и наследуется современными авторами. Действительно, «Теория <Ленина> обещала государство, совершенно отличное от прежних буржуазных государств». Но в 1918, 19, 20 годах Ленин не вел строительство такого государства, он отвечал на вызовы времени. А они были таковы: разруха, потеря управления, кризис транспорта, голод и, наконец, война.
В 1921 году, с введением НЭПа, Ленин ретроспективно охарактеризовал мобилизационные меры советской власти «своеобразным «военным коммунизмом». Глава РКП(б) явно апеллировал к терминологии, примененной Богдановым, давая определение процессам в России, по аналогии с военным коммунизмом Европы.
«Своеобразный «военный коммунизм», — писал Ленин, — состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелко-крестьянской стране мы не могли»[924].
«Военный коммунизм», — писал Ленин, — был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой»[925].
* * *
К сожалению, нежелание многих авторов углубляться в исторический и идеологический контекст, приводят к неприятным ошибкам, а часто и к откровенной дезинформации. Часто тон в отечественных работах задают западные публикации, авторы которых не могли иметь доступа к советским материалам и архивам. Так, Р. Пайпс в «Русской революции» утверждает: «Конечно, в какой-то части политика военного коммунизма вынужденно решала неотложные проблемы. Однако в целом она была отнюдь не «временной мерой», но самонадеянной и, как оказалось, преждевременной попыткой ввести в стране полноценный коммунистический строй»[926].
Следом уже в российском энциклопедическом словаре «История Отечества» читаем: «Военный коммунизм» — внутренняя политика Советского государства… Явилась попыткой преодоления экономического кризиса диктаторскими методами, опиралась на теоретическое представление о возможности непосредственного введения коммунизма. Основное содержание: национализация всей крупной и средней промышленности и большей части мелких предприятий; продовольственная диктатура, продразверстка, прямой продуктообмен между городом и деревней; замена частной торговли государственным распределением продуктов по классовому признаку (карточная система); всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате труда; военно-приказная система руководства всей жизнью общества»[927].
Вторит словарю интернет-ресурс «Студенту ВУЗа»: «В 1918‑1919 гг. формировалась социально-экономическая политика советской власти, получившая название «военного коммунизма». Эта политика представляла собой попытку сверхбыстрого перехода к коммунизму с помощью чрезвычайных мер… «Военный коммунизм» был порожден утопической верой в коммунизм и мировую революцию»[928].
Вдвойне обидно, что такая оценка действий Советов полностью искажает взгляд на дальнейшее развитие государства. Переход к НЭПу объясняется «провалом политики военного коммунизма». Говорят о «пересмотре Лениным своих взглядов» и даже о том, что «лидер большевиков убедился на примере военного коммунизма в невозможности форсированного социалистического строительства», и «был вынужден изменить свою политику, ради сохранения власти пойдя на попятный, вернувшись к рыночным отношениям».
Не стоит и говорить, насколько глубокими заблуждениями являются такого рода выводы.
9. Итоги революции, Гражданской войны, политики военного коммунизма
Обстоятельства, довлевшие над жизнью страны Советов в первые годы ее существования, наложили серьезный отпечаток на всю дальнейшую историю страны. И дело не только в том, что в условиях войны и военного коммунизма формировалась жесткая, вертикально интегрированная система управления — так называемая административно-командная система. Не в «централизации», которую по сей день ставят в вину большевикам, не понимая, что революционные теоретики того периода, впервые выдвинувшие этот тезис, отстаивали анархо-синдикалистскую альтернативу — рабочий контроль и полную автономность на местах. И не в «бюрократизации» — это вновь отголосок старого и плохо понятого в современности спора. В тот период каждый не избранный представитель власти автоматически попадал в ряды «бюрократов».
Дело даже не в сращивании партийного и государственного аппаратов — как показал нам опыт современной России, это отнюдь не уникальная особенность большевиков.
Да, революционеры пришли к власти с идеалистическими лозунгами (под которыми все же скрывалось куда менее идеалистическое содержание), а обстоятельства вынудили их действовать во многом вразрез с этими лозунгами. Вместо наивно ожидаемого многими немедленного «пролетарского рая», мира и демократии в виде полной свободы, большевикам пришлось восстанавливать государственное управление, собирать армию, сражаться. И в условиях войны кормить голодных людей и поддерживать в меру сил и умений (которых объективно не хватало) хозяйство — при даже не завершенном еще до конца, а продолжающемся распаде всех прежних социальных, экономических и государственных институтов.
Представьте себе масштаб этой задачи, добавьте в уравнение партию, которая не имела ранее возможности получить опыт государственного управления, и отнимите все остальные партии, успевшие к тому моменту попробовать управлять страной. И станут понятны слова многократно цитированного в этой работе эсера Н. Д. Кондратьева: «Начиная с 1919 г. я признал, что я должен принять Октябрьскую революцию, потому что анализ фактов действительности и соотношение сил показывали, что первоначальное представление, которое я получил в 1917‑1918 гг. было неправильно… я вошел в органическую связь с Советской властью»[929].
Или слова знакомого нам анархиста Виктора Кибальчича — яркого и предметного критика политики большевиков, вступившего в РКП(б) в 1919 году, но не разорвавшего связи с анархистами. По сути, Кибальчича следует воспринимать как представителя анархического крыла русской революции в большевистской партии. В 1921 году он остро и с болью переживал трагедию антибольшевистского Кронштадского мятежа. Кибальчич обладал если не полной (полной, пожалуй, на тот момент не обладал никто) картиной событий в городе-крепости, то явно более широкой, нежели рисовала официальная пропаганда. Он знал, что так называемый «мятеж белогвардейских офицеров» в действительности в очень значительной степени является выступлением кронштадских матросов под руководством местного Совета.
В воспоминаниях Кибальчича отражены и его глубокое сочувствие восставшему гарнизону, и его поддержка «антитоталитарных» требований: «перевыборы в советы на основе тайного голосования; свобода слова и печати для всех революционных партий и групп; свобода профсоюзов; освобождение политзаключенных революционеров; свертывание официальной пропаганды; прекращение реквизиций в деревне; свобода кустарям…» и т. д.[930]
И вместе с тем Кибальчич пишет: «С большими колебаниями и невыразимой тоской я и мои друзья-коммунисты в конечном счете стали на сторону партии. И вот почему. Правда была на стороне Кронштадта, Кронштадт начинал новую освободительную революцию, революцию народной демократии. «Третья революция!» — говорили некоторые анархисты, напичканные детскими иллюзиями. Однако страна была полностью истощена, производство практически остановилось, у народных масс не осталось никаких ресурсов, даже нервных. Элита пролетариата, закаленная в борьбе со старым порядком, была буквально истреблена. Партия, увеличившаяся за счет наплыва примазавшихся к власти, не внушала особого доверия. Другие партии были очень малочисленны, с более чем сомнительными возможностями. Очевидно, они могли восстановиться за несколько недель, но лишь за счет тысяч озлобленных, недовольных, ожесточившихся, а не энтузиастов молодой революции, как в 1917-м. Советской демократии не хватало вдохновения, умных голов, организации, за ней стояли лишь голодные и отчаявшиеся массы. Обывательская контрреволюция перетолковывала требование свободно избранных советов в лозунг «советы без коммунистов». Если бы большевистская диктатура пала, последовал бы незамедлительный хаос, а в нем крестьянские выплески, резня коммунистов, возвращение эмигрантов и, наконец, снова диктатура, антипролетарская в силу обстоятельств»[931].