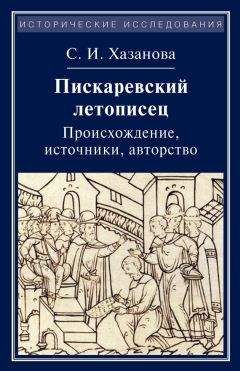Продолжая сравнение, А. Н. Гробовский иронически замечает, что «поистине Алексей Адашев был, как писал князь Курбский, «ангелом подобен»[127]. Таким образом, исследователь рассматривает «Историю» Курбского и Пискаревский летописец как произведения, находящиеся в русле одной традиции, резко враждебной опричнине. Но А. Н. Гробовский не провел детального текстологического сравнения Пискаревского летописца и «Истории» Курбского, поэтому его вывод об общей традиции, связывающей Пискаревский летописец и «Историю о великом князе московском» представляется несколько опрометчивым. В летописце незаметно никакого влияния сочинения князя Курбского: заметка об Адашеве и Сильвестре является единственной, которая читается в обоих произведениях, но текстуально у них нет ничего общего. Противоположные оценки, даваемые исследователями сведениям Пискаревского летописца об одних и тех же событиях, показывают, что изучение этого памятника далеко от завершения.
Многие исследователи Пискаревского летописца обращались к нему для изучения истории опричного террора. А. А. Зимин взял из памятника сообщения о казнях в Пскове: «Во Пскове погибли игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий и келарь (вероятно, упоминавшийся в синодиках Вассиан Муромцев)»[128]. Известие Пискаревского летописца о казнях историк оценивал как достоверное. В подтверждение его достоверности он ссылался на синодик, где названы те же лица, что и в Пискаревском летописце.
Другой историк опричнины, Р. Г. Скрынников, приводил свидетельства Пискаревского летописца, когда писал о казни Владимира Андреевича Старицкого и его семьи: «В начале октября Старицкий прибыл на ямскую станцию Богану и разбил там свой лагерь… После короткого судебного "разбирательства" князь Владимир был доставлен 9 октября 1569 г. в царский лагерь и по приказу царя выпил кубок с отравленным вином. Вместе с ним приняли яд его жена и девятилетняя дочь Евдокия»[129]. Р. Г. Скрынников обращался к Пискаревскому летописцу и тогда, когда писал о казни матери князя Владимира Андреевича Старицкого: «Опричники забрали старицу Евдокию из Горитского монастыря и на речных повезли в Слободу. 11 октября она была казнена. Царь „по дороге велел ее в судне в ызбе в дыму уморити“ »[130]. Свидетельство Пискаревского летописца о казни Евдокии Старицкой Р. Г. Скрынников приводил и в позднейшей монографии[131].
Обращение историков к памятнику как источнику по истории времени Ивана Грозного не ограничивалось только привлечением свидетельства о казнях. Статьи Пискаревского летописца о взаимоотношениях Москвы и крымских татар, передаче трона Симеону Бекбулатовичу также часто служили для историков источником, к которому они обращались в исследованиях по истории XVI в. А. А. Зимин ссылался на свидетельства Пискаревского летописца при описании пожара 1572 г., случившегося во время нападения на Москву крымского хана Девлет-Гирея: «Пожар был кратковременным, но катастрофическим: «Крымской царь посады на Москве зжег, и от того огня грех ради наших оба города выгорели, не осталось ни единые храмины, а горела всего три часа»[132].
Р. Г. Скрынников следовал тексту Пискаревского летописца при описании нападения татар на Москву в 1571 г.: «От взрывов, сообщает Пискаревский летописец, вырвало две стены городовых у Кремля»[133]. Свидетельства Пискаревского летописца приводил и А. А. Зимин, рассказывая о гибели в битве при Молодях мурзы Теребердея, пленении суздальцем Темиром Алалыкиным мурзы Дивея, хитрости русских военачальников: «Во время сражения Девлет-Гирей взял в плен гонца с грамотами, которого послал русским военачальникам московский наместник Юрий Токмаков. В грамотах сообщалось, чтобы воеводы „Сидели (в Гуляй-городе) безстрастно, а идет рать наугородцкая многая“ »[134]. Р. Г. Скрынников писал о том же самом, только добавил, что ложные грамоты о походе царской рати побудили хана не к отступлению, как это представлено в летописце, а к более энергичным действиям[135].
В. Б. Кобрин использовал сведения из Пискаревского летописца, когда писал о переговорах Ивана Грозного с крымскими послами после нападения татар на Москву: «Переговоры Ивана IV начались в необычной атмосфере. По приказу царя во время аудиенции бояре были не в торжественном парчовом одеянии, а в простых черных одеждах. Пискаревский летописец сообщает, что и сам царь одел сермягу»[136].
Р. Г. Скрынников приводил данные Пискаревского летописца при описании казней 1570 г., передаче трона Симеону Бекбулатовичу и последующих вслед за этим казнях[137]. В. Б. Кобрин разбирает две версии о причинах передачи трона Симеону Бекбулатовичу: «Автор Пискаревского летописца передает противоречивые слухи, ходившие в то время среди русских людей. Одни утверждали, что царь испугался предсказания волхвов, напророчивших на этот год „московскому царю смерть“. Другие же полагали, будто царь „искушал люди: что молва будет в людех про то“. Больше доверия, чисто психологически, заслуживает первая версия. Ведь в колдунов и предсказателей тогда верили безоговорочно. Дела о „ведунах“, которых держали у себя для гаданий, весьма распространены. И все же не забудем, что даже автор Пискаревского летописца не утверждает истинности этого слуха, а пишет лишь, что „говорили неции“»[138]. В. Б. Кобрин показал здесь, что сам составитель Пискаревского летописца дал оценку достоверности своих сообщений и что он пользовался, скорее всего, «слухами», т.е. устными источниками.
К другим статьям Пискаревского летописца, основанным, вероятно, тоже на устных источниках, обращались Р. Г. Скрынников и С. О. Шмидт. Первый привел рассказ о пирах Ивана Грозного, когда царь велел составить список боярских речей: «Во время веселых пиров во дворце царь Иван не прочь был потешиться и пошутить не только над иноками, но и над ближними боярами»[139]. Р. Г. Скрынников ничего не сообщил ни об отношении к этим пирам автора летописца, ни о том, как соотносится эта статья памятника с другими. О речах, на этот раз записанных в посаде, упоминает и С. О. Шмидт: «Можно лишь догадываться о том, что существовали письменные источники, в какой-то мере выражавшие умонастроения и „черных людей“, памятники „народной публицистики“ – челобитные, „сказания“, подметные письма, тайные записи разговоров, которые велись в рядах московского торга (как в последующие десятилетия, когда по заданию царя посылали „слушать в торг у всех людей всех речей и писати тайно“, и, ознакомившись однажды со „списком речей мирских“, Иван IV удивишася мирскому волнению)»[140]. В. Б. Кобрин оценивал такие сообщения Пискаревского летописца следующим образом: «Обстановку в стране и при дворе в последующие годы жизни царя хорошо рисует слух, записанный в Пискаревском летописце о „списке речей срамных“ »[141]. Но историки, процитировав эти «слухи», не определили их происхождение, не дали оценку достоверности подобных «речей».
Другая тема, для изучения которой исследователи обращались к Пискаревскому летописцу, касается кануна Смутного времени и последующих событий Смуты. Но, в отличие от событий времени опричнины и эпохи Ивана Грозного в целом, ссылки на Пискаревский летописец при исследовании Смуты и предшествующих ей годов в трудах историков встречаются реже. Возможно, объяснение такого предпочтения кроется в том, что от XVI в. сохранилось гораздо меньше источников, чем от Смутного времени. Но все же полностью игнорировать Пискаревский летописец исследователи, занимающиеся историей конца XVI – начала XVII в., не могли. При этом они часто не ограничивались иллюстративным привлечением памятника, а пытались дать оценку достоверности его сообщений.
Р. Г. Скрынников ссылался на свидетельства Пискаревского летописца, когда писал о народных волнениях после смерти Грозного: «…В случае успеха Бельский мог ликвидировать регентский совет и править от имени Федора единолично, опираясь на военную силу. Над Кремлем повеяло новой опричниной. Но Бельский и его приверженцы не учли одного важного фактора. Таким фактором была народная стычка у кремлевских ворот, послужившая толчком к восстанию». В подтверждение своего вывода Р. Г. Скрынников привел цитату из Пискаревского летописца: «Народ всколебался весь без числа со всяким оружием». Историк пришел к выводу, что факты заставляют признать участие в вооруженных выступлениях против вместе с городскими низами и купечества и дворян. Именно они подали сигнал к восстанию, вспыхнувшему сразу после смерти Грозного, что отмечено и в Пискаревском летописце. Молодой сын боярский, повествует летописец, проскакал тогда по столичным улицам, вопя во весь голос «в народе, что бояр Годуновы побивают»[142].