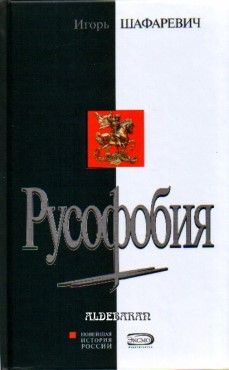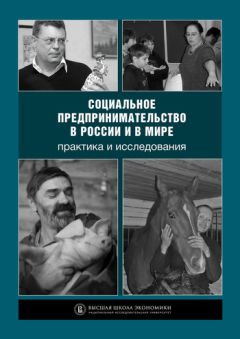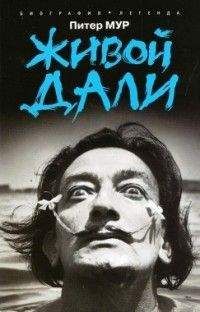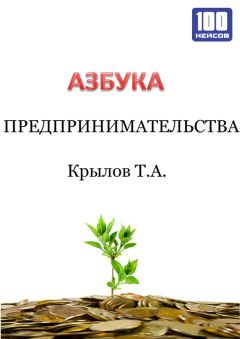Часто изречения из литературы современного «Малого Народа» настолько совпадают с мыслями их предшественников, что кажется, будто одни других цитируют. Особенно это поражает при сопоставлении современного «Малого Народа» с его предшественником 100-120-летней давности, сложившимся внутри либерального, нигилистического, террористского и революционного движения в нашей стране. Ведь это действительно странно: в литературе современного «Малого Народа» можно встретить мысли — почти цитаты из Зайцева, Чернышевского или Троцкого, хотя в то же время его представители выступают как убеждённые западники-демократы, полностью отрицающие идеалы и практику «революционного века» русской истории, относя всё это к традиции «русского тоталитаризма».
Так, Зайцев и Шрагин, отделённые друг от друга веком, совершенно единодушно признают, что в отношении всего народа рамки демократии «чересчур узки». «Рабство в крови их», — говорит Зайцев, а Померанц повторяет: «холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед властью».
И если вдова поэта О. Мандельштама Н. Я. Мандельштам в своих воспоминаниях, осуждая тех, кто уходит от борьбы за духовную свободу, писала: «Нельзя напиваться до бесчувствия… Нельзя собирать иконы и мариновать капусту», а Троцкий (в «Литературе и революции») называл крестьянских поэтов (Есенина, Клюева и др.) «мужиковствующими», говорил, что их национализм «примитивный и отдающий тараканами», то ведь в обоих случаях выражается одно и то же настроение. Когда Померанц пишет:
«Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, весь народ сливается в реакционную массу»,
то это почти повторение (интересно, сознательное или невольное?) положения знаменитой Готской программы:
«По отношению к пролетариату все остальные классы сливаются в одну реакционную массу».
Очевидно, что здесь не только совпадение отдельных оборотов, мыслей. Ведь если отжать основное ядро литературы современного «Малого Народа», попытаться свести её идеи к нескольким основным мыслям, то мы получим столь знакомую концепцию «проклятого прошлого», России «тюрьмы народов»; утверждение, что все наши сегодняшние беды объясняются «пережитками», «родимыми пятнами» — правда, не капитализма, но «русского мессианства» или «русского деспотизма», даже «дьявола русской тирании». Зато «великодержавный шовинизм» как главная опасность — это буквально сохранено, будто заимствовано литературой «Малого Народа» из докладов Сталина и Зиновьева.
Вот ещё одно конкретное подтверждение. Шрагин заявляет, что он не согласен, будто сознание нашего народа покалечено обработкой, цель которой была — заставить стыдиться своей истории, забыть о её существовании, когда Россия представлялась «жандармом Европы» и «тюрьмой народов», а история её сводилась к тому, что «её непрерывно били». [14] Время, когда это делалось, всеми забыто, говорит он. «Попробовал бы кто-нибудь протащить через современную советскую цензуру эти слова — „жандарм Европы“, отнеся их хотя бы к русскому прошлому».
Но сам на той же странице пишет:
«Была ли Россия „жандармом Европы“? — А разве нет? Была ли она „тюрьмой народов“ — у кого достанет совести это отрицать? Били ли её непрерывно за отсталость и шапкозакидательство? — Факт».
Значит, «время, когда это делалось», — совсем не забыто, прежде всего самим Шрагиным. Сменился только солист — перед нами как бы хорошо отрепетированный оркестр, в котором мелодия, развиваясь, переходит от одного инструмента к другому. А в то же время нам-то рисуют картину двух антагонистов, двух путей, друг друга принципиально исключающих. И представляется нам только выбор между этими двумя путями — ибо третьего, как нас уверяют, — нет. Опять та же, хорошо знакомая ситуация!
Никогда, ни при каком воплощении «Малого Народа» такая полная убеждённость в своей способности и праве определять жизнь «Большого Народа» не останавливалась на чисто литературном уровне. Так, Амальрик уже сравнивает теперешнюю эмиграцию с «эмиграцией надежды», предшествующей 1917 году. И конечно, можно не сомневаться, что в случае любого кризиса они будут опять здесь в роли идейных вождей, муками изгнания выстрадавших своё право на руководство. Недаром так упорно поддерживается легенда, что все они были «высланы» или «выдворены» — хоть и долго обивали пороги ОВИРа, добиваясь своей визы.
Другое указание на наличие некоторого слоя, проникнутого элитарными, кружковыми чувствами, не стремящегося войти в контакт с основными социальными слоями населения, даже отталкивающегося от них, можно, мне кажется, извлечь из наблюдения над нашей общественной жизнью, из различных выступлений, заявлений и т. д. Я имею в виду ту их удивительную черту, что уж очень часто они направлены на проблемы МЕНЬШИНСТВА. Так, вопрос о свободе выезда за границу, актуальный разве что для сотен тысяч человек, вызвал невероятный накал страстей.[15] В национальной области судьба крымских татар вызывает куда больше внимания, чем судьба украинцев, а судьба украинцев — больше, чем русских. Если сообщается о притеснениях верующих, то говорится гораздо больше о представителях сравнительно малочисленных религиозных течений (адвентистов, иеговистов, пятидесятников), чем православных или мусульман. Если говорится о положении заключённых, то почти исключительно политзаключённых, хотя они составляют вряд ли больше 1% общего числа. Можно подумать, что положение меньшинства реально тяжелее. Это совершенно неверно: проблемы большинства народа никак не менее острые, но, конечно, ими надо интересоваться; если их игнорировать, то их как бы и не будет. И пожалуй, самый разительный пример — заявление, сделанное несколько лет назад иностранным корреспондентам, что детям интеллигенции препятствуют получать высшее образование (было передано по нескольким радиостанциям). В то время как для детей интеллигенции, особенно в крупных городах, возможность поступления в высшую школу, наоборот, больше, чем для остальных из-за внушённой в семье установки, что высшее образование необходимо получить, из-за большей культурности семьи, компенсирующей недостаточный уровень средней школы, из-за возможности нанять репетиторов. Каким позором было бы такое заявление в глазах интеллигенции прошлого века, считавшей себя в долгу перед народом! Теперь же задача — вырывать своим детям места за счёт народа.
Ещё один знак, указывающий в том же направлении, — это «культ эмиграции». То внимание, которое уделяется свободе эмиграции, объявление права на эмиграцию «первым среди равных» прав человека — невозможно объяснить просто тем, что протестующие хотят сами уехать, в некоторых случаях это не так. Тут эмиграция воспринимается как некий принцип, жизненная философия. Прежде всего как демонстрация того, что «в этой стране порядочному человеку жить невозможно». Но и более того, как модель отношения к здешней жизни, брезгливости, изоляции и отрыва от нееё. (Ещё Достоевский по поводу Герцена заметил, что существуют люди так и родившиеся эмигрантами, способные прожить так всю жизнь, даже никогда и не выехав за границу.) Насколько эта тема деликатная и болезненная, показывают следующие два примера.
1. На одной пресс-конференции была высказана мысль, что эмиграция всё же не подвиг, в уезжают люди, порвавшие духовные связи со своей родиной, которые поэтому уже вряд ли способны внести большой вклад в её культуру. Опровержения и протесты так и посыпались в западной и эмигрантской печати, по радио… Один живущий здесь писатель написал громадную статью в известную французскую газету «Монд», в которой, в частности, утверждал, что «отрыв от родины» — всегда подвиг и что «мы(?), оставшиеся, благословили уехавших».
2. Выходящий в Париже на русском языке журнал «Континент» в своём первом номере, где предлагается программа журнала и прокламируется его намерение говорить от имени «Континента Восточной Европы», публикует статью одного из его организаторов и влиятельного члена редколлегии А. Синявского[16] (под псевдонимом Абрам Терц). «Сейчас на повестке дня третья эмиграция», — пишет автор. Понимает он её широко. «Но все бегут и бегут» — не только люди, например, она совпадает с тем, что «уходят и уходят из России рукописи». А кончается статья картиной:
«Когда мы уезжали, а мы делали это под сурдинку, вместе с евреями, я видел, как на дощатом полу грузовика подпрыгивают книги по направлению к таможне. Книги прыгали в связке, как лягушки, и мелькали названия: „Поэты Возрождения“, „Салтыков-Щедрин“. К тому времени я от себя уже всё отряс. Но они прыгали и прыгали (…). Книги тоже уезжали…
Я только радовался, глядя на пачки коричневых книжек, что вместе со мной, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.