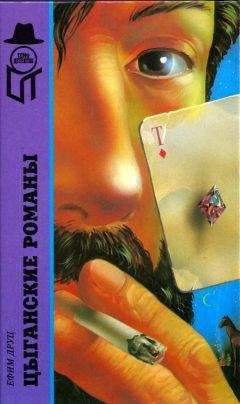Я не совсем понял, какой смысл был полякам врываться на радиостанцию в Глейвице, стрелять там в потолок и говорить в микрофон по-польски, но я решил, что это, видно, какая-то странность явно неполноценного народа, я кипел от негодования и соглашался с оратором: действительно, не оставалось ничего другого, как открыть ответный огонь. "Сегодня в пять сорок пять открыт ответный огонь!" - кричал Гитлер, и еще он кричал, что он хотел только мира, а всемирное еврейство-войны.
"Вот теперь всемирное еврейство получило свою войну!" - кричал рейхсканцлер. И тут мы все, как я вспоминаю теперь, разом засмеялись, фюрер сводил счеты с Рузвельтом и его политикой гарантии мира и назвал его старым дураком. Вот тут-то мы и рассмеялись, а фюрер сказал, что жребий брошен, и у меня вдруг возникло чувство, будто я вступаю в водоворот, в бездонную пучину. Холодное, мрачное чувство, и я сейчас же подумал, что фюрер добьется победы, но мрачное, холодное чувство не отпускало меня. Словно сквозь вату, я слышал, как Гитлер сказал, что с этой минуты и до самой победы он будет выполнять свой воинский долг в качестве простого ефрейтора и не снимет походного боевого мундира - одеяния славы, которое наденет весь народ, - до тех пор, пока враг не будет повержен наземь и раздавлен, и я подумал, что фюрер в качестве простого ефрейтора пойдет с каким-нибудь полком на фронт, а Геринг или Гесс на это время примут правление в свои руки, и мрачное чувство притупилось, стало тупым беспокойством, тупой тоской, и я вдруг решил добровольно вступить в армию.
Речь кончилась, мы встали и вместе с депутатами рейхстага закричали "зиг хайль!" и потом спели "Германия превыше всего" и марш Хорста Весселя, а потом так и остались стоять в растерянности.
Директор школы, маленький толстый человек в черном сюртуке, с медалью за мировую войну на груди, вышел вперед и, запинаясь и без конца откашливаясь, прерывающимся голосом сказал, что после глубоко потрясающей речи фюрера он просто не может найти слов, чтобы выразить все то, что переполняет его душу и душу каждого честного немецкого мужчины и юноши, ибо час испытаний настал, и мы все, как один, должны беззаветно следовать за своим любимым фюрером, куда бы он нас ни повел. Затем он снова откашлялся и сообщил, что занятий в школе пока не будет, что мы в свое время получим новые указания, и затем мы все разошлись по домам, и началась война.
Началась война, мы пошли домой, и, как ни странно, я больше ничего не могу вспомнить об этом дне. Возможно, воспоминания мои потускнели оттого, что после речи Гитлера все пошло совсем не так, как я себе представлял. Ведь началась война! Был первый день войны, жребии судьбы был брошен, я ждал, что теперь произойдет что-то особенное, какое-то необычайное событие: взрыв, буря, гром орудий, марширующие войска, ликующие толпы этот день должен пройти иначе, чем все остальные дни. Но ничего подобного не случилось.
Ни бури, ни взрыва, ни ликования, ни цветов, ни знамен, ни песен -война началась тихо, железный жребий упал бесшумно. Мужчины и женщины на улице выглядели испуганными, подавленными и угнетенными, и у меня тоже стало мрачно и тяжело на сердце. Началась война, но жизнь тем не менее продолжалась, как она продолжается всегда, и в этом было что-то призрачное. Где-то на востоке шла стрельба, двигались танки и пушки, падали на землю солдаты, слышалась железная поступь истории, а в Хоенэльбе бакалейщик продавал соль, а булочник хлеб, почтальон разносил письма, возчики вкатывали на телегу бочки с пивом. Все они выглядели подавленными и разговаривали мало, и вдруг мне показалось противным разуму, почти преступным то, что возчики вкатывают сейчас бочки с пивом, а почтальон разносит письма, булочник продает хлеб, а бакалейщик соль, сейчас, когда началась война. Война, война, война! Я почувствовал, что нужно что-то делать, и побежал к командиру своего штурмового отряда, седому капитану бывшей императорской австро-венгерской армии, который владел в Хоенэльбе посреднической конторой по продаже недвижимости, и доложил ему, что явился. Командир был в военной форме и при всех орденах, тяжело ступая, он маршировал по своей квартире -и по-военному строго ответил на мое повоенному четкое приветствие. Он согласился со мной, что нужно что-то делать, потом долго и напряженно думал и сказал, что у него еще нет указаний, но на всякий случай он объявляет боевую готовность номер один: каждый штурмовик должен находиться у себя дома или на работе в полной форме и в состоянии полной боевой готовности, и он приказал мне передать этот приказ командирам всех штурмовых отрядов, и я помчался к командирам, которые тоже уже облачились в свою форму.
Потом я сидел в своей комнате и слушал последние сообщения: победоносное наступление, зверства поляков, угрозы французов и англичан, фюрер на фронте, исторический час, и я помню, что в эту ночь я лег спать в форме и в сапогах.
На следующий день занятия в школе опять не состоялись, и, так как была суббота, я поехал на конец недели домой, к родителям. Я застал их в растерянности.
- Я пойду добровольцем, - объявил я, и моя мать вдруг закричала, а отец бросил на меня грозный взгляд и сказал:
- Ты не пойдешь добровольцем.
- Я пойду добровольцем! - повторил я, и мой отец, коренастый и сильный, как медведь, схватил мои руки, сжал их и, вдавливая меня в кресло, произнес:
- Ты не пойдешь добровольцем.
И так как я продолжал настаивать, что пойду добровольцем, мой отец крикнул, что запрещает мне это, а если я сделаю это тайком, он пойдет на призывной пункт и заберет мое заявление, поскольку я еще несовершеннолетний, и опозорит меня перед всем светом.
Я знал, что он так и сделает, и больше ничего не стал говорить. Я хлопнул дверью своей комнаты и сел к радиоприемнику слушать последние сообщения: победоносное наступление, зверства поляков, угрозы англичан и французов, фюрер на фронте, исторический час. За известиями последовали сообщения из рот пропаганды: фюрер ест гороховый суп вместе со своими храбрыми солдатами и офицерами из одного котла, жена фельдмаршала, как простая сестра милосердия, ухаживает в госпитале за храбрыми ранеными, правительство установило наивысший продуктовый паек занятым на тяжелых работах и запрещает танцы и прочие увеселения, пока наши храбрые солдаты сражаются на поле боя. Я с восхищением подумал, что фюрер добился самого трудного: он добился единства народа и создал народную армию, где генералы и солдаты едят гороховый суп из одного котла и где главнокомандующим является простой ефрейтор. Я решил, что, несмотря на гнев отца, запишусь добровольцем. Я сидел у радио и слушал известия и чрезвычайные сообщения о новых и новых победах: взят Ченстохов, форсирована Варта восточнее Вилуна, захвачен Яблунковский перевал, установлено господство в воздушном пространстве над Польшей, а на стратегическую цель - Варшаву сброшены бомбы. Я сидел у радио, и слушал сообщения о новых и новых победах, и внимал железной поступи истории. Весь день я ни с кем не разговаривал, мать тоже молчала и прилаживала шторы, чтобы затемнить окна в спальне, отец сидел в трактире "У Рюбецаля" и обсуждал военное положение. Вечером мы встретились на улице, он взял меня под руку и пошел со мной по дороге в горы. Окна домов были затемнены, нигде не было видно света, мир казался черным, как подземное царство: темная пещера, придавленная ночным небосводом. Вечер был ветреным, серые и черные тучи проносились над вершинами гор, мчалась Бешеная охота* [* Бешеная охота - в легендах средневекового германского эпоса - призраки погибших в сражениях, которые беспрестанно носятся по небу, как охотники, преследующие зверя.]: впереди всадник, за ним беснующиеся кони и псы, и Бешеная охота несется к месяцу, лимонно-желтый сверкающий серп которого стоит над горной вершиной.
- Старый еврейский бог мстит за себя, - прошептал мой отец. Он твердо держался на ногах, хотя много выпил, он тихо бормотал, но язык его не заплетался: - Старый еврейский бог мстит за себя, - шептал он и неподвижными глазами смотрел на Бешеную охоту, которая терзала месяц и пожирала его.
- Он зарвался, - продолжал шептать мой отец. - Он зарвался и теперь всех нас погубит вместе с собой.
Я не понимал, что он говорит. Я испугался. Уж не бредит ли он?
- На этот раз он погубит весь мир, - шептал мой отец, он схватил меня за плечо и вдруг закричал: - Это мировая война, мой мальчик, ее Германия не переживет!
Его слова поразили меня, как удар обухом.
- Но ведь у нас есть фюрер, - пролепетал я, сбитый с толку, и я сказал, что еще не было ни одной войны, в которой солдаты понимали бы так ясно, за что они борются.
- Так за что же? - спросил мой отец.
Я не смог ответить ему и вдруг почувствовал, как заколотилось мое сердце. Было темно, ревела буря, она поглотила месяц, я слышал ее завывание, искал ответ и не находил его. Я заговорил о чести, о свободе, и едва я произнес эти слова, как они показались мне пустой фразой, а мой отец сказал, что завтра Франция и Англия объявят нам войну и Америка последует за ними, и это будет закатом Германии. Вдруг он покачнулся, язык его начал, заплетаться, я взял его под руку и повел домой. Идти приходилось ощупью: темнота, словно море, поглотила землю.